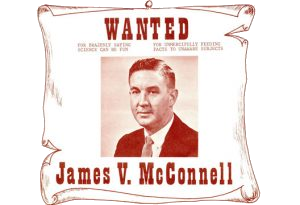| Лев Оборин. Главный русский роман для России |
| Лев Оборин. Главный русский роман для России |
Павка Корчагин | Павлины | Падеж | Пальцы | Памфлет | Память | Панаев | Панама | Папуасы | Парадигма | Парадокс | Паранойя | Парафраз | Пародия | Партенос | Партия | Пастор | Патина | Паттерн | Пафос | Пациент | Паяцы | Пейзаж | Пейсы | Пена | Первая мировая война | Первомай | Перевёртыш | Перекрестное опыление | Перестройка | Перикл | Периостит | Перцев | Песочные часы | Пессимизм | Петербург | Петропавловская крепость | Петрушка | Печень | Пещера Рождества | Пикассо | Сэр Пинеро | Пиноккио | Пирамиды | Пиранья | Писарев | Писатель | Письменный стол | Писарь | Пифагор | Пифагореизм | Планета | Платон | Платформа | Плач | Плебс | Плигин | Плиний Старший | Плисецкая | Плоды просвещения | Плоскостопие | Пляска святого Витта | Пномпень | Повар | Поведение | Поверхность | Повтор | Подошва | Подполковник | Подсолнечник | Поезд | Позвоночные | Познание | Покаяние | Поколение | Пол | Полевая кухня | Полиграфия | Полимеры | Политбюро | Политеизм | Политик | Политика | Политическая корректность | Полицейский | Полк | Полковник | Половой акт | Половой отбор | Половые гормоны | Полумесяц | Полуостров | Полюс | Полярная звезда | Полярный круг | Помещик | Помпеи | Г. Попов | Популяция | Порнография | Поручик Ржевский | Поскрёбышев | Послелог | Пословица | Потенция | Потерянный рай | Потребительная стоимость | Потребление | Поэзия | Поэма | Поэт | Права человека | Право первой ночи | Пранаука | Прапорщик | Предлог | Президент | Президент Российской Федерации | Преcc-конференция | Преcc-служба | Преcтиж | Престол | Преступление | Приматы | Принцип | Притон | Провинция | Провод | Программа Время | Программист | Проза | Прозвище | Производительность труда | Производная | Производство | Прокруст | Проксимальные фаланги | Пролетариат | Прометей | Промышленность | Проперций | Пропп | Пророк | Просо | Проституция | Пространство — время | Протагонист | Протестантизм | Противоположные суждения | Противоречие | Профессия | Профессор | Пруссия | Психика | Психоанализ | Психология | Психопатия | Птицы | Пуго | Пукирев | Пустыня | Путин | Путина | Путинизм | Путч ГКЧП | Пушкин | Пшеница | Пьер Безухов | Пьеро | Пястные фаланги | Пятикнижие | Пятое колесо |
M.C. Escher | Maier | Maize | Mankoff | Manufacturing | Martian | Mason Hall | Mathematics | Mathieu function | Maxwell model | Mayer | McCleary | McConnell | McGaugh | Medical ultrasound | MEDLINE | Mercedes-Benz | Metamaterial | Michigan | Michigan State University | The Mikado | G. Miller | N. Miller | Modality | Molecule | Monroe | Morreall | Myelin |
NASA | National Association for the Education of Young Children | National Institute of Mental Health | National Science Foundation | Nature | Nature Communications | Nerve | Neurobiology | Newsweek | Newton | Newtonian fluid | New York | New Yorker | Niagara Falls | Nirenberg | NPR |
The Washington Post | J.B. Watson | J.D. Watson | E.B. White | P.D. White | WLWT5 | WolframAlpha | Woods | World War II | Worm Runner’s Digest |
Abbott Laboratories | ABC-TV | Agassi | Alger | Alley Oop | American Psychological Foundation | Animals | Ann Arbor, Michigan | The Atomic Energy Commission | Alley Oop | American Psychological Association | Antiresonance | Aporrectodea caliginosa | Arithmetic | Attardo | Audacity | Austin, Texas | Australia | Axon |
Obeah | The Observer | Office of Naval Research | Okmulgee, Oklahoma | Orwell | Oscar | Oscilloscope |
Lakatos | Lamarckism | Larson | Laser Doppler vibrometer | Lashley | Levine | Life magazine | Linear elasticity | List of Nobel laureates | Liu Tong | London | Long-term memory | Los Angeles | Loudness | LSD | L.S.U. | Ludovici | Lumbricus rubellus | Lumbricus terrestris | Lu Yu | Lysenko |
Bacteria | Bandidos Motorcycle Club | Barnes | Beach | Benjamin Jr | Benzer | Bessel function | Bifurcation | Bikini Island | Biology | Black power revolution | Bower | Brave New World | Brillouin spectroscopy | Brooks | Brown |
Calvin | Campagna | Canola oil | Capillary wave | Carew | Cat | Cauz | Chicago | Chionoecetes volodicus | Choisy | CIA | Cincinnati | Citizendium | ClueBot NG | Cmiel | Construction | Corcoran | Coser | Crick | Cylinder |
University of Akron | University of Calsfornia, Los Angeles | University of Michigan | University of Texas | USA | USSR |
Palo Alto, California | Parametric resonance | Pattern | Paulos | Pavlov | PC Pro | Pemoline | Penfield, New York | Penjon | Pharynx | PhD. | Photodiode | Planaria | Popper | Population growth | Predation | Presbyterian Medical Center | Pribram | Princeton | Provine | Psychology Today | PubMed | Punch line |
Faraday | Faraday wave | The Far Side | Feyerabend | FFmpeg | Fluid dynamics | Fortune | Fourier transform | FPS | Freud | Fry | Fulbright Scholarship |
Jacobian matrix | Jensen | Journal of Applied Psychology | Journal of Biological Psychology | Journal of Comparative and Physiological Psychology | The Journal of Neuroscience |
Technocapitalism | Teflon | The Steve Allen Show | Thompson | Time | Tolman |
Hall | Halliwell | Harlow | Harmonic | Harris lines | Hauser | Hazlitt | Hebbian theory | Hilgard | Hobbes | Homo erectus | Homo sapiens | Homo sapiens sapiens | Homo Soveticus | Hubbard | Hugo Award | Hull | Huxley | Hydrostatics |
Earthworm | Eccles | Eisenia fetida | Einstein | Encyclopaedia Britannica | Engineering | Engram | Entropy | Esquire | Ethanol | Euclid | Evolution | Exponential function |
Kaczynski | Kandel | Kant | Keyes | Kierkegaard | Knol | Knowledge Graph | Koestler | Krech | Kuhn |
Хазария | Ханаан | Харчевня | Хафиз Ширази | Хвост | Херасков | Хёйзинга | Химическая технология | Химическая физика | Химия | Хлебников | Хобот | Хозрасчет | Холестерин | Холуй | Хонеккер | Хорей | Хофштадтер | Хохма | Храм | Хрестоматия | Христианство | Хроматография | Хромосомная теория наследственности | Художник | Хюден |
Андрей Константинович Гейм — советский, нидерландский и британский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года, известен в первую очередь как один из разработчиков первого метода получения графена.
Siberia is an extensive geographical region, and by the broadest definition is also known as Eurasia and North Asia./p>

Richard C. Tolman was an American mathematical physicist and physical chemist who was an authority on statistical mechanics.
The Mikado is a comic opera in two acts, with music by Arthur Sullivan and libretto by W. S. Gilbert, their ninth of fourteen operatic collaborations.
Абессив | Абрикос | Абстракция | Абсурд | Абуладзе | Авария на Чернобыльской АЭС | Авгур | Август | Австрия | Австро-Венгерская империя | Авторитет | Автоматизация | Агрессия | Ад | Адам | Аддисон | Адорно | Адсорбенты | Азартная игра | Азия | Академик | Академия наук СССР | Алгебра | Алгоритм | Алдонина | Алжир | Алкей | Алкоголь | Алкогольдегидрогеназа | Аллах | Аллегория | Аллилуева | Аллюзия | Альтруизм | Альтюссер | Альфьери | Американцы | Аминокислоты | Амортизация | Ампер | Амплитуда | Амплуа | Анализ | Анатомия | Ангелы ада | Англия | Андрей Болконский | Андрей Первозванный | Анекдот | Анемия | Аниме | Анимизм | Анна Павловна | Анод | Анонимизация | Антимайдан | Антиоксиданты | Антисемитизм | Антитеза | Антихрист | Антропный принцип | Антропология | Аплодисменты | Аполлон | Апостол Павел | Апостолы | Аппарат | Арена | Аристон Хиосский | Аристотель | Аристофан | Армения | Армия | Артерия | Артефакт | Артиллерия | Артист | Архангельский | Архилох | Архитектура системы | Асклепий | Аспирантура | Ассоциация | Астрология | Атавизм | Атеросклероз | Атомная электростанция | Аторвастатин | Аукцион | Афазия Вернике | Аффект | Аффилиация | Ахиезер | Ахматова | Ахросимова | Ацетальдегиддегидрогеназа | Аю-Даг | Аякс |
Чай | Чайковский | Чайковское | Чайная церемония Гунфу Ча | Чаплин | Частица | Частотность | Частушка | Человек | Человечество | Человечность | Черви | Чернильница | Чернобыль | Чернокнижник | Черное море | Черномор | Черный квадрат | Чернышевский | Черт | Чиновник | Чинопочитание | Числительное | Чума | Чуфут-Кале | Чучело |
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
Давид | Даль | Данте | Дантес | Дао | Ч. Дарвин | Дарвинизм | Дверь | Дворник | Двусмысленность | Дева Мария | Девочка | Девственность | Дед Мороз | Декабристы | Декарт | Делёз | Дельфы | Демагогия | Деменция | Демократия | Демон | Дерево познания добра и зла | Деррида | Детерминизм | Детство | Джетлаг | Дзэн | Дзюдо | Диалектический материализм | Диалектическое противоречие | Диван | Диверсия | Дивы | Диета | Дикари | Дикий мед | Динамическая система | Динозавры | Директива | Дисклинация | Дискурс | Дистальный | Дифференциация | Дмитриев | ДнепроГЭС | Довлатов | Догма | Догматизм | Доказательство | Доктор | Домино | Домье | Донбасс | Дон Кихот | Донос | Достоевский | Достоинство | Доход | Доцент | Древнегреческая мифология | Древний Египет | Древняя Греция | Другой | Дуб | Дурак | Дуршлаг | Дух | Дуче | Дуэль | Дэ | Дэвис | Дюрер |
Ци — одна из основных категорий китайской философии, фундаментальная для китайской культуры, в том числе и для традиционной китайской медицины.
Царь | Цахес | Г.Ю. Цезарь | Цена | Ценообразование | Центральная Азия | Центрально-Азиатская экспедиция Николая Рериха | Цербер | Церковь | Ци | Цинизм | Цирк | Цитрон | Цитрусовые | Цицерон | ЦК КПСС |
Заварочный чайник | Заговор | Задорнов | Зайцы | Закон Божий | Закон | Закон спроса и предложения | Залдостанов | Замятин | Запад | Запретный плод | Заработная плата | Заратустра | Затраты | Звездное небо | Звездные войны | Звездные дневники Ийона Тихого | Зверь | Зевс | Землетрясение | Земля | Земля Израильская | Земля людей | Земляне | Зеркало | Зима | Злодей | Змеи | Знание | Знахарство | Золотая баба | Золотая Рыбка | Золушка | Зощенко | Зубная эмаль | Зубной камень | Зубчатая передача | Зубы человека | Зюганов |
Чайная церемония Гунфу Ча обязана своей популярностью традиции народов Миньнань и Чаочжоу или Чаошань.
Инь и ян — этап исходного космогенеза в представлении китайской философии, приобретение наибольшим разделением двух противоположных свойств.
Иван Грозный | Иванов | Иванушка-дурачок | Иврит | Идентитаризм | Идентичность | Идиосинкразия | Идиот | Идиотия | Идол | Идолопоклонство | Иегова | Иероним Стридонский | Иерусалим | Изба | Извилины мозга | Изобразительное искусство | Изостазия | Израиль | Иисус Христос | Икона | Иллюзия | Ильф и Петров | Имманентность | Иммунитет | Импакт-фактор | Император | Империализм | Имя прилагательное | Имя собственное | Индикатор | Индия | Индонезия | Индукция | Индустриализация | Инерция | Инжир | Инстинкт самосохранения |Институты РАН | Инсулин | Инсульт | Интеграл | Интеграция | Интернет | Интернет-мем | Интернетчик | Интерпелляция | Интерпретация | Интерфейс | Интуиция | Инфаркт | Инь и ян | Иоанн Креститель | Иоанн Кронштадтский | Ипполит | Ирак | Ирландия | Ирония | Исаия | Искра | Искусственный интеллект | Искусство | Исландия | Испуг | Истмен | История | История России | Исходный падеж | Иудаизм | Ифигения |
Лу Юй — китайский поэт и писатель времён династии Тан, создатель первого письменного трактата о чае Чайный Канон, почитаемый как чайное божество.
Наука — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности.
Навершие | Надпочечники | Накладные расходы | Намек | Наполеон | Наркотик | Народ | Народная песня | Народные промыслы | Наслаждение | Наследование приобретенных признаков | Настасья Ивановна | Настоящее время | Наташа Ростова | Натурфилософия | Наука | Наука логики | Научное исследование | Научный сотрудник | Национализм | Наушники | Неандерталец | Небо | Небылица | Невеста | Невский проспект | Недочеловек | Некрасов | Некрополь | Немцов | Немцы | Неожиданность | Неравный брак | Нерв | Нерон | Нива | Николай II | Нирвана | Ницца | Ницше | Ничто | НЛП | Нобелевская премия | Новатор | Новочеркасский расстрел | Новый Арбат | Новый Завет | Новый русский | Новый Свет | Номенклатура | Нос | Носовая кость | Носовой платок | Ночные волки | Нравственность | Ньютон | Ньютоновская механика | Нюрнбергские мейстерзингеры |
Эволюция | Эвристика | Эвфемизм | Эго | Эгоизм | Эдемский сад | Эзопов язык | Эйзенхауэр | Эйлер | Эйнштейн | Эквивалент | Эквиваленция | Экзерсис | Экология | Экономист | Экономический эффект | Эксгибиционизм | Эксперимент | Экспертный опрос | Экспонента | Экспорт | Экспромт | Экстравагантность | Элеаты | Электрические рыбы | Электрический ток | Электрическое напряжение | Электродинамика | Электрон | Электронно-вычислительная машина | Электронный микроскоп | Электросварка | Электрофорез | Элементарная частица | Элен | Элита | Эмансипация | Эмерсон | Эмоция | Эмпедокл | Эмпиризм | Эмпирика | Энгельс | Энергия | Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона | Энциклопедия | Эпиграмма | Эпиктет | Эпикур | Эпикуреизм | Эпифиз | Эпос | Эпоха | Эра | Эриксон | Эрос | Эстетика | Эсхил | Этнология | Этология | Этос | Эшелон |
Углеводы | Удовольствие | Улица Строителей | Улыбка | Ульфила | Умозаключение | Умолчание | Университет Бар-Илан | Университет Пердью | Университет Халла | Униженные и оскорбленные | Унтер-офицер | Уппсальский университет | Управление | Упячка | Уравнение | Уравнения Максвелла | Ургант | Урочище | Успение Пресвятой Богородицы | Успенский Анастасиевский монастырь | Утро в сосновом лесу | Ухо | Ученый | Учитель | Уэвелл |
Метатеория — теория, анализирующая методы и свойства другой теории, так называемой предметной или объектной теории.
Магия | Магнетрон | Магнит | Магнитное поле | Магнитосфера | Мадзини | Мазурик | Майнлендер | Майор | Майстер Экхарт | Макаревич | Макиавеллизм | Малая Медведица | Мамонты | Мандельштам | Манифестация | Манхэттен | Маньяк | Маре | Мариуполь | Марксизм-ленинизм | Мармонтель | Марс | Мартиросян | Масленица | Марциал | Маршальский жезл | Масонская ложа | Масонство | Масса | Массачусетский технологический институт | Массовая культура | Массовое убийство | Математик | Математика | Математическая модель | Материализм | Мачеха | Машина | Маяковский | Мебель | Медведев | Медвежьи | Медиум | Междометие | Мелодрама | Мембрана | Менделеев | Меньшевики | Мериме | Мертвые души | Местоимение | Металлолом | Метаморфоза | Метафиз | Метатеория | Метафизика | Метафора | Метод | Метод Дельфи | Метод тыка | Методология науки | Механика | Мизантропия | Миклухо-Маклай | Микробы | Мильтон | Минаев | Минарет | Министерство | Министерство государственной безопасности СССР | Мини-юбка | Минский | Миокард | Мир как воля и представление | Мирабо | Мировой экономический кризис 2008 | Мистификация | Мистицизм | Миф | Младенец | Млекопитающие | Млечный Путь | Множество | Мода | Модус | Мозг | Моисей | Мойка | Молния | Молния | Молот ведьм | Монография | Монотеизм | Монтень | Моррис | Морфология | Москва | Москвич | Московский метрополитен | Мотоклубы | Моцарт | Мощность | Моэм | МСОП | Муж | Мужчина | Музыка | Мур | Мускулы | Муссолини | Мусульманство | Муха | Мушка | Мыс | Мышление | Мэр | Мюнхгаузен | Мюрат | Мясо |
Бог — название могущественного сверхъестественного Высшего Существа в теистических и деистических религиях.
Баба-яга | Бадью | База данных | Базаров | Базилика Рождества Христова | Базис и надстройка | Байкеры | Балерина | Балтийское море | Банзен | Баня | Барон | Барыня | Басня | Батурина | Баубо | Бахтин | Бахчисарай | Башилов | Башкирский язык | Бедность не порок | Бедренная кость | Беленький | Белки | Бенарес | Беранже | Берви-Флеровский | Бергсон | Береза | Беременность | Берлин | Бесконечность | Бессознательное | Бетель | Бетховен | Би-би-си | Библия | Бильрот | Биология | Биофизика | Биохимия | Биркгоф | Бисмарк | Бич | Ближний Восток | Близнецы | Блондинка | Бобков | Бог | Божественный Отец | Бокс | Болезнь | Болезнь Паркинсона | Большая Медведица | Большеберцовая кость | Большевизм | Большой театр | Бомарше | Борев | Борода | Борщ | Борьба | Бочка | Бравый солдат Швейк | Братья | Брежнев | Брейнсторминг | Британская энциклопедия | Британские ученые | Брут | Будда | Буддизм | Будильник | Буйволы | Булгаков | Бульварная пресса | Буренин | Буря | Бутлеров | Буфет | Бухарин | Буян | Бытие | Бюрократия |
Латинизация — кампания по переводу письменностей народов СССР на латиницу, проводившаяся в 1920-е — 1930-е.

Лаборатория | Лазер | Лайк | Лайнер MH17 | Ламарк | Ларошфуко | Латинизация | Латынь | Лафарг | Лебедев | Лебединые девы | Лебедь | Лев X | Левиафан | Левша | Легион | Леда и лебедь | Лейбниц | Лексема | Лексика | Лем | Лемма | Ленин | Ленинградское телевидение | Леопарди | Лесть | Лето | Лженаука | Либерализм | Ливен | Ликок | Лингвистика | Линза | Литвиненко | Литвинов | Литературная газета | Литературные жанры | Литлтон | Литр | Лифшиц | Лихачев | Лиходеев | Лихтенберг | Лицемерие | Лицо | Лоб | Лобачевский | Лобная кость | Лобная чешуя | Логика | Локк | Ломброзо | Лорд | Лосось | Лубок | Лубочная литература | Лужков | Лук | Лукоморье | Луна | Луна и грош | Лунно-солнечный календарь | Лысые Горы | Лэндор | Людовик XIV | Людовик XV | Лютер | Лягушки |
Кабаева | Кабак | Кабинет | Кавалерия | Кавказ | Кавказская война | Каганович | Казаки | Казаки | Казахстан | Как закалялась сталь | Кактусы | Какудзо | Каламбур | Калан | Калев | Калейдоскоп | Календарь | Калиостро | Каллимах из Кирены | Калория | Калькулирование | Камбоджа | Каменев | Кампус | Кант | Канцелярские товары | Капитализм | Капитан | Караимы | Карамзин | Карасев | Кардифф | Карикатура | Карлейль | Карлик | Карнавал | Карсон | Картер | Картофель | Кассандра | Кастрация | Катарсис | Катастрофа | Катод | Католицизм | Катон | Качалов | Каштан | Квантовая механика | Квартира | Квинтилиан | Квинтэссенция | Квир | КВН | Кеды | Кентавр | Кестлер | Кибернетика | Киевлянин | Киевская Русь | Кизил-Коба | Килограмм | Кингстон-на-Халле | Кинематическая цепь | Кинетика | Кинология | Кио | Кирпич | Китай | Классическая музыка | Классовая борьба | Клистрон | Клоун | Клуб | Клуб 12 стульев | Клюшка для гольфа | Кляйн | Кнышев | Кобольды | Когнитивистика | Когнитивный диссонанс | Коза | Козел отпущения | Колдовство | Колдун | Коленная чашечка | Колено | Колесо | Коллективизация | Колмогоров | Колониализм | Колорадо | Колхоз | Комедиант | Комедия | Комендант | Коминтерн | Коммунист | Компьютер | Конденсатор | Кондильяк | Коннотация | Конспирология | Константинополь | Конституция | Контекст | Контрреформация | Континуум | Концепция | Концерт | Копейка | Корнель | Корова | Король | Коронарная артерия | Корпорация | Корпускулярно-волновой дуализм света | Корреляционный анализ | Корреляция | Коррида | Корыто | Коса | Космическая медицина | Космическая пыль | Космогония | Косово | Кофе | Крабы | Красильщик | Красное мясо | Красноречие | Краудсорсинг | Крахмал | Крематорий | Крепостное право | Крестьянин | Крещение | Кривин | Критика чистого разума | Критон | Кровать | Кровеносные сосуды | Кровь | Крокодил | Кромвель | Кроули | Крупская | Крылов | Крылья насекомых | Крым | Крымская война | Крымское ханство | Кримінальний кодекс | Крысы | Крышевание | Кудрин | Кузнечиковые | Куклы | Кукрыниксы | Кукушки | Кулак | Кулачный бой | Кулинария | Кульминация | Культура | Купец | Курагин | Курение | Курехин | Курорт | Курочкин | Курсант | Кутузов |
Уильям Уэвелл, английский философ, теолог, англиканский священник, историк науки, универсальный человек.
Фальсификация | Фанатизм | Фарадей | Фармацевтика | Фасеточный синдром | Фатальность | Фауна | Фауст | И.Г. Фауст | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Федеричи | Федотов | Фейк-ньюс | Феномен | Феноменология | Феодализм | Фермата | Фестиваль | Фехтование | Фея | Физика | Физики шутят | Физиология | Физическая химия | Физтех | Филеб | Филет | Филология | Философия | Фиолент | Фиоритура | Флора | Фонд Wikimedia | Фонтанка | Фонтенель | Форд | Формальная логика | Формула | Форум | Французская академия наук | Французы | Фрейд | Френель | Фридрих III | Фрукт | Фуко | Фундамент | Функция | Функциональный анализ | Фунт |
Кибернетика — наука об общих закономерностях получения, хранения, преобразования и передачи информации в сложных управляющих системах, будь то машины, живые организмы или общество.
Перекрёстное опыление — тип опыления у покрытосеменных растений, при котором пыльца от андроцея одного цветка переносится на рыльце пестика другого цветка.
Дифференциация — разделение, разведение процессов или явлений на составляющие части.
Интеграция — процесс вставки частей во что-то.
Физическая химия — раздел химии, наука об общих законах строения, структуры и превращения химических веществ.
Химическая физика — наука о физических законах, управляющих строением и превращением химических веществ.
Словарь Ожегова — однотомный нормативный толковый словарь русского языка, созданный известным советским лингвистом Сергеем Ивановичем Ожеговым на основе Толкового словаря русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова.
Сабантуй | Саблин | Сазонов | Салтыков-Щедрин | Сальери | Самодержавие | Самозарождение | Самокритика | Самоокупаемость | Самоубийство | Саранча | Сарказм | Сатира | Сатиры | Сатурналии | Сахар | Свасьян | Светлое Христово Воскресение | Свинец | Свиньи | Святая инквизиция | Святой Августин | Священник | Себестоимость | Север | Седина | Сезанн | Секс | Сексуальные дисфункции | Секунда | Село | Село Степанчиково и его обитатели | Селфи | Семантика | Семейное счастие | Семинария | Семиотика | XVII съезд ВКП | Семья и школа | Семя подсолнечника | Сенека | Сен-Симон | Сенсуализм | Сент-Экзюпери | Септуагинта | Септум | Сера | Сервелат | Сердце | Сержант | Сестры | Сибирь | Сидение на корточках | Сиденхем | Сийес | Сила тока | Симметрия | Синергетика | Синонимы | Синтез | Синявский | Сифилис | Сказка | Сказка о рыбаке и рыбке | Сказка о царе Салтане | Скафандр | Скелет человека | Скипетр | Скифы | Скоморох | Скорость света | Скрипаль | Скуловая дуга | Скульптура | Слова-паразиты | Словарь Ожегова | Слово | Слово Божие | Словоерс | Словоформа | Слон | Слоним | Слюнные железы | Смертность | Смерть | Смех | Смех: Эссе о значимости комичного | СМИ | Собака | Собакевич | Собор Святого Стефана | Собчак | Совесть | Советская власть | Советский народ | Современник | Содружество Независимых Государств | Соединенные Штаты Амиерики | Сознание | Сократ | Солдат | Соленоид | Солнечное затмение | Софокл | Социализм | Социальное страхование | Социальная кибернетика | Социальные науки | Социология | Социум | Союз | Спаситель мира | Спекуляция | Спенсер | Сперматозоид | Спиноза | Спиритизм | Сплевывание | Справочник | Сравнение | Среда | Средиземноморье | Средства производства | Средние века | СССР | Ставролит | Сталин | Сталинизм | Стамбул | Старость | Статистика | Стена | Стенгазета | Стендаль | Стенка на стенку | Стенография | Степанов | Стингер | Стих | Стихотворный размер | Стоимость | Стоицизм | Столб | Столбовое дворянство | Страбон | Стравинский | Стрекоза | Стрельба | Стрельцы | Стресс | Структурная лингвистика | Студент | Стул | Стыд | Суббуря | Субъективность | Суворов | Судоплатов | Судьба | Суеверие | Суккот | Султан | Сумерки | Сумма ряда | Сфинкс | Суша | Существительное |
Электронно-вычислительная машина — комплекс технических, аппаратных и программных средств, предназначенных для автоматической обработки информации, вычислений, автоматического управления.
Элементарная частица — собирательный термин, относящийся к микрообъектам в субъядерном масштабе, которые невозможно расщепить на составные части.
Изостазия — гидростатически равновесное состояние земной коры, при котором менее плотная земная кора плавает в более плотном слое верхней мантии — астеносфере, подчиняясь закону Архимеда.
СССР — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Восточной Европы, Северной, части Центральной и Восточной Азии.
Глокая куздра — искусственная фраза на основе русского языка, в которой все корневые морфемы заменены на бессмысленные сочетания звуков.
Гаджет | Галилей |Галиция | Галлы | Гамлет | Гарвардский проект | Гардероб | Гарднер | Гарем | Гармония | Гартман | Гашиш | Гваттари | ГДР | Гегель | Гей | Гекатомба | Гельвеций | Ген | Гендер | Генерал | Генеральный секретарь | Генетика | Генетический код | Гениальность | Генисаретское озеро | Геноцид | Гентский алтарь | Географические карты | География | Геометрическая пропорция | Георгиевский монастырь | Гера | Германия | Гермес | Гернгутеры | Герольд | Гете | Гипертермия | Гиперфункция | Гипоплазия зубов | Гистрион | Гитлер | Глагол | Глаз | Глобус | Глокая куздра | Глюкоза | Гоббс | Гоби | Гоген | Гоголь | Голеностопный сустав | Голиаф | Голова | Голодомор | Голубь | Гольф | Гомер | Гомерический хохот | Гомология в биологии | Гомосексуальность | Гонконг | Гопники | Гораций | Горбачев | Горизонт событий | Гормоны | Городовой | Горох | Госпиталь | Государственный департамент США | Государственный совет ГДР | Государство | Государство | Готская епархия | Готье | Гравитация | Градус Реомюра | Гражданин | Грамматика | Гранат | Грант | Граф | Греки | Грех | Гринпис | Грипп | Гроб | Гротеск | Грудь | Гудок | Гуманизм | Гуманитарные науки | Гусары | Гусейнов | Гуфеланд |
Континуум обозначает некоторую сплошную среду, в которой исследуются процессы/поведение этой среды при различных внешних условиях.
Математика — наука о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся на основе операций подсчёта, измерения и описания формы объектов.
Автоматизация — одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций.
Обезьяний процесс | Обезьяны | Обер-церемониймейстер | Облако | Область | Область Вернике | Образование | Обскурантизм | Общая теория систем | Обществоведение | Обязательное социальное страхование в России | Овация | Овес | Овидий | Овощи | Овца | Огнестрельное оружие | Огни большого города | Одинцова | Одноклассники | Ожидание | Озарение | Окно | Олеарий | Омагничивание воды | Онтология | Оперетта | Опиум | Оппозиция | Оппортунизм | Оптимизация | Оптимизм | Оракул | Оранжевая революция | Оратор | Оргазм | Органическая химия | Орехов | Орлов | Орнитология | Оружейный салют | Орфей | Орфизм | Освенцим | Османы | Основной падеж | Основные средства | Остап Бендер | Остров | А. Островский | Н. Островский | Остроградский | Остроумие | Остроумие и его отношение к бессознательному | Осуществление репродуктивной функции | Осязание | Отрасль | Отцы и дети | Офицер | Очки |
Лев Толстой против всех | Ленин был шестиметровым рыбоящером | Литературные вкусы профессиональных групп в России | Лорд Кельвин о производной | Люблю математику |
Boris N. Volgin. The theory of the theories: The guide for the young scientists
A science grows on the exponent. Number of the publications grows faster than accumulating knowledge amount and number of the scientists grows faster than a number of the publications.
The theory of the theories consists of two large sections:
1) an invention of a science name;
2) filling in an invented science with contents.
The article consists of six chapters:
1. Introduction
2. Of the question’s history
3. New times
4. Mystique of the content through simplification of the name
5. Names variations
6. Threadbare way
Damon and Pythias | Damping effect | Darwin | David | Davis | Decibel | Design |
Ларри Штерн. В защиту концепции Джеймса В. Макконнелла о передаче памяти: Жонглирование трех акробатов во время прогулки по канату без страховки
Первая часть моего заголовка в порядке. Я буду писать о Джиме Макконнелле, его каннибальских червях и передаче памяти. Эпизод, пришедший на ум, тесно связан с его именем…
Джеймс В. Макконнелл. Теория обучения
Я пишу это потому, что, насколько могу судить, Он хочет, чтобы я писал. Иначе зачем Он дал бы мне бумагу и карандаш? А Он я пишу с большой буквы потому, что это представляется мне наиболее логичным. Если я умер и нахожусь в аду, тогда большая буква — простое соблюдение приличий. Ну а если я только пленник, то малая толика лести еще никогда никому не вредила.
Mark Richard Rosenzweig was an American research psychologist whose research on neuroplasticity in animals indicated that the adult brain remains capable of anatomical remodelling and reorganization based on life experiences, overturning the conventional wisdom that the brain reached full maturity in childhood.

Imre Lakatos was a Hungarian philosopher of mathematics and science, known for his thesis of the fallibility of mathematics and its methodology of proofs and refutations in its pre-axiomatic stages of development, and also for introducing the concept of the research programme in his methodology of scientific research programmes.

Paul Feyerabend was an Austrian-born philosopher of science best known for his work as a professor of philosophy at the University of California, Berkeley, where he worked for three decades.

Joseph Agassi is an Israeli academic with contributions in logic, scientific method, and philosophy. He studied under Karl Popper and taught at the London School of Economics.

Послесловие редакции к Теории юмора Константина Глинки | Почему истина в вине? | Предисловие к книге Наука выбирать и поступать. Книга вторая | Причины слабости социальных наук | Происхождение мемов | Публикации Детской Академии — Веселой Научной Враки | Пысьмо щастья |
О вкладе товарища Сталина в теорию и практику юмора | Обезьяны и художественная литература | Общая теория спора | Оказывается, муравьи вовсе не любят работать, выяснили ученые | От редакции | От редакции | От редакции | От редакции | От редакции |
К 90-летию Джеймса Вернона Макконнелла | К вопросу о субъективном ощущении термальной комфортности | Как же Путин стал дедушкой? | Красный Солитон. Избранное |
James Vernon McConnell … | James V. McConnell’s advocacy of memory-transfer: Juggling three different personae — while walking a tightope — without a net |
Cain | Chapouthier | che_telcontar | Chiodo | Corbett |
Memory of James Vernon McConnell | The mystery of the vanished citations. James McConnell’s forgotten 1960s quest for planarian learning. a biochemical engram, and celebrity |
Макаренко | Макконнелл | Маковейчук | Мартиросян | Музыка | Мухин | Мухин |
Чаепития в Академии | Черви. Условия разведения: развесистая липа или За что боролись, на то и напоролись |
Джеймс В. Макконнелл. Черви. Условия разведения: Развесистая липа или За что борролись, на то и напоролись
Вот уже 16 лет я издаю нечто вроде юмористического псевдонаучного журнала под названием Журнал Дрессировщика Червей. Отсюда и начинаются мои признания. Дело в том, что Журнал Дрессировщика Червей начинавшийся в виде личной небольшой шутки над Научным Учреждением, в итоге оно сыграло шутку надо мной.
Mahrer | Maksymov | McConnell | McConnell | McConnell | McConnell | Michalski | mitrichu | Mounaud |
Worm-breeding with tongue in cheek or the Confessions of a scientist hoist by his own petard | The Worm Runner’s Digest. Larry Stern on an extraordinary and subversive journal |
The Whole-witted scientist | Why manuscripts fail, according to 12 experts | Worm runner’s digest | When was Worm Runner’s Digest created? | Wit and Humor During the COVID-19 Pandemic | Why it’s called Pizza |
Science has a Mean Girls Problem | Serendipitous web searches | Some Animals Can Consume Knowledge Through Cannibalism | Smile, says U psychologist; It’s good for you |
5 minute history lesson, episode 1: James V. McConnell | 5 рождественских открыток Сальвадора Дали | 5 уроков от Леонардо да Винчи
Журнал Дрессировщика Червей. Ларри Штерн об экстраординарном и подрывном журнале
Главная мысль статьи, правда, принадлежит не автору, а Артуру Кестлеру, утверждавшему, что главной радостью цивилизованного человека среднего возраста является чтение Журнала Дрессировщика Червей, сидя у камина с рюмкой коньяка.
Hagopian | Hart | Henschel | Hr Raschke |
Марк Риллинг. Тайна исчезнувших цитат. Забытый в 1960-е Джеймс Макконнелл в поисках биохимической инграммы обучения планарий
В 1960-х, во время скептицизма в вопросе о возможности обучения беспозвоночных, Джеймс Макконнелл и другие исследователи создали очаровательную теорию обучения планарий.
Robert Sommer is an internationally known Environmental Psychologist and currently holds the position of Distinguished Professor of Psychology Emeritus at the University of California, Davis.

Karl Spencer Lashley was a psychologist and behaviorist remembered for his contributions to the study of learning and memory.

Ernest RopiequetJack Hilgard was an American psychologist and professor at Stanford University.

Norman Maier was an American experimental psychologist who worked primarily at the University of Michigan.

Theodore Christian Schneirla was an American animal psychologist who performed some of the first studies on the behavior patterns of army ants.

Frank Ambrose Beach, Jr. was an American ethologist, best known as co-author of the 1951 book Patterns of Sexual Behavior.

Donald Jensen is an American hepatitis C researcher and clinician who works at Rush University Medical Center in Chicago.

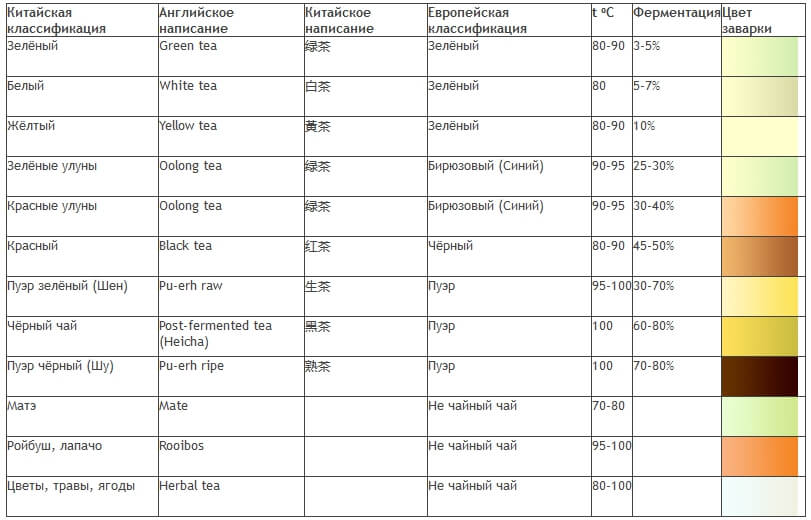

Памяти В.С. Черномырдина. Черномырдинки | Периодическая система чая | Песня Высоцкого про Тау Кита оказалась пророческой | Пишите кратко! | Плащ-невидимка Гарри Поттера: физики обнаружили новое квази-2D золото | Полезные свойства чая | Последняя статья С.П. Капицы | Пословицы и поговорки научным языком | Постеры о корифеях | Почему гопники любят семечки: 4 правдивые теории | Почему истина в вине? | Предисловие к книге Наука выбирать и поступать. Книга вторая | Предложение читателям | Происхождение слова гопник | Про киви | Псевдонаука | Публикации Детской Академии — Веселой Научной Враки | Пупырь на краю Солнца — Эффект Ломоносова | Путинская Россия напоминает мне о том, как я подвергался цензуре в отделе шуток |
В Канаде создан плащ-невидимка | В Чёртовой заднице | Вечность и бесконечность | Вечность и бесконечность | Википедия о чае | Владимир Высоцкий о науке | Все, что вам надо знать о планете Земля | Вступайте в ряды Фурье | Вы смотрите в космическое пространство и видите, как тихо пролетает чайник | Выборы Президента Беларуси 2020 | Высоты и глубины |
Science Fiction and Fantasy Writers of America is a nonprofit organization of professional science fiction and fantasy writers.

Austin is the capital of the U.S. state of Texas and the seat of Travis County, with portions extending into Hays and Williamson counties.

Horatio Alger Jr. was an American writer, best known for his many young adult novels about impoverished boys and their rise from humble backgrounds to lives of middle-class security and comfort through hard work, determination, courage, and honesty.

World War II, also known as the Second World War, was a global war that lasted from 1939 to 1945, although conflicts reflecting the ideological clash between what would become the Allied and Axis blocs began earlier.

Kenneth J. Cmiel was an American academic and historian specializing in the history of human rights at the University of Iowa.

The Journal of Neuroscience is a weekly peer-reviewed scientific journal published by the Society for Neuroscience.

Society for Neuroscience is a professional society, headquartered in Washington, DC, for basic scientists and physicians around the world whose research is focused on the study of the brain and nervous system.

Thomas J. Carew is an American neuroscientist whose interests center on the behavioral, cellular, and molecular analyses of learning and memory.

Charles Robert Darwin was an English naturalist, geologist and biologist, best known for his contributions to the science of evolution.

Evolution is change in the heritable characteristics of biological populations over successive generations.

Roger William Brown an American social psychologist, was born in Detroit.

An intelligence quotient is a total score derived from several standardized tests designed to assess human intelligence.

Imaginary Conversations | Imaging | International Journal of Humor Research | Inverse-square law | In vitro | In vivo | IPad | Iteration | IQ |
George Orwell was an English novelist, essayist, journalist and critic whose work is marked by lucid prose, awareness of social injustice, opposition to totalitarianism and outspoken support of democratic socialism.

The Sexual revolution, also known as a time of sexual liberation, was a social movement that challenged traditional codes of behavior related to sexuality and interpersonal relationships throughout the United States and subsequently, the wider world, from the 1960s to the 1980s.

The Black Power Revolution, also known as the Black Power Movement, 1970 Revolution, Black Power Uprising and February Revolution, was an attempt by a number of social elements, people and interest groups in Trinidad and Tobago to force socio-political change.

Rock’n’roll is a genre of popular music that originated and evolved in the United States during the late 1940s and early 1950s from musical styles such as gospel, jump blues, jazz, boogie woogie, and rhythm and blues, along with country music.

The Vietnam War was a conflict that occurred in Vietnam, Laos, and Cambodia from 1 November 1955 to the fall of Saigon on 30 April 1975.

Vibration | Vietnam War | Virus |
30 февраля | 32 мая |
Abdel Halim Hafez | Alam Simsim | American scene painting | Anomalous weather | The Attempted murder of a beloved and wealthy nuclear power plant owner | Attempted murder of a beloved and wealthy nuclear power plant owner | AVE Mizar |
Fearsome Creatures of the Lumberwoods, With a Few Desert and Mountain Beasts | Fearsome critters | Ford Pinto | Funny Animal |
List of animals with fraudulent diplomas | List of guest stars on Sesame Street | List of inventors killed by their own inventions | List of lists of lists | Listed |
Tarrare | Territorial marking | Thomas Kinkade | Toast sandwich | Tommy Westphall Universe Hypothesis |
Баба Адаму | Бабай | Беда Достопочтенный | Бабай | Белорусский арабский алфавит | Беспамятная собака | Битва селёдок | Бобровые войны | Большая Сука | Большой глупый носитель | Бука Сука Димка | Буква зю | Бухлоэ |
Валентин Христофорович Колумб | Вобля | Всемирная туалетная организация | Всемирный оргазм | Вымышленные народы России |
Как питаться с помощью задницы | Ковыряние в носу | Козлина | Козлодуй | Конкурс израильской антисемитской карикатуры | Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка | Кровохлёбка |
Остров Недоразумения | Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого | Отрицательный и положительный ноль | Очковый цветосос |
Падение Ельцина с моста | Памятник Мытищинскому водопроводу | Парадокс кошки с маслом | Петровичи | Петтинг | Политическое лесбиянство | Попа | Порнократия | Порнохолокост | Поросячья латынь | Похер | Правильный 65537-угольник | Противотанковая собака |
Самый длинный и бессмысленный фильм в мире | Список несуществующих химических элементов | Список титулов Ким Чен Ира | Сталин против марсиан | Счастье |
Тауматауакатангиангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокануэнуакитанатаху | Теорема о бесконечных обезьянах | Тут |
Убля | Ушная война |
К новому, 5780 | Как люди представляют любовь | Как написать статью, которую не примут в англоязычный журнал — 24 совета | Как создавался компьютер | Какое интересное время днесь | Клуб смеха | Когда верстался номер | Когда версталась страничка | Комсомольская правда жжот | Красный Солитон. Избранное |
Мария Брановская о математике | Математика — это жизнь | Математика на песке | Математики вычислили алгоритм убийств Чикатило | Математическая угроза! Как теорема чуть не нанесла вред молодым женщинам | Математически правильный завтрак | Материалы Ann-Arbor District Library | Миф о сотворении мира |
Джеймс В. Макконнелл. Признания научного юмориста
Нетрадиционный ученый, изучающий причудливое исследовательское животное и редактирующее научный журнал, раскрывает все: Учреждение было после него, потому что он был виновен в lsese-majesté scientifique и, возможно, даже за то, что все его грехи были завернуты в одну скандальную фразу: чувство юмора! На самом деле это еще хуже: он виноват в том, что вводит в заблуждение студентов, думая, что наука может быть веселой.
FOXNEWS. Пропавший 100 лет назад корабль нашли в Бермудском треугольнике | From the search for a molecular code of memory to the role of neurotransmitters: A historical perspective |
Академик Трубников: Наука — это рывок в будущее |Актеры Советского Кино: Трамвай 2170 | Альберт Эйнштейн. Афоризмы | Альберт Эйнштейн о своих первых математических впечатлениях | Акад. А.Н. Колмогоров об аксиоматике | А. Лебег о площади круга и его частей | Анимация работы различных механизмов | Афоризмы о математике |
Басалаева | Беленький | Брановская | Брукс |
Речь идет о постановлении Кабинета Министров Украины от 31 января 2016 г. #24 Об особенностях выплаты вознаграждений военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава в особый период и во время проведения антитеррористических операций.
Карнаух | Кечеджан | Козак | Колмогоров |
Лаговской | Лаговской | Лаития | Лебег | Лишевский | Ломэн | Лубяницкий | Лубяницкий | Лубяницкий | Люкимсон | Ляхов |
Панчин | Панчин | Панчин | Перцев | Перцев | Пинаев | По | Прилуцкий | Прилуцкий | Приходченко | Прохорович |
Эдгар По о квадратном уравнении | Экономисты, физики и лирики не только шутят | Экспресс-тест на понимание научного юмора |
Над Эйнштейном посмеиваются | На самом деле, только 2 вещи могут сделать тебя по-настоящему счастливым | НАСА отправит первую в истории BLM-экспедицию на Солнце | Наука | Наука — баба веселая. Как конвертировать исследовательскую активность населения в цифры дохода на каждую нашу душу | Научные заблуждения | Научный стиль | Наше собственное метро | Немецкие математики с вероятностью 62% доказали, что Бог существует | Несколько интересных фрагментов из книжки К. Сагана Драконы Эдема | Новое в алфавитологии | Новости науки |
T.E. Nefedova, L.I. Voytyuk, A.Ye. Prilutsky. To the question on a subjective sensation of a thermic convenience
The work is denoted to the problem of a study of the subjective sensation of the termic convenience.
We discovered the evident subjective hyperpyrexia in the field of temporary that lay in a small vicinities of the spot which we give a conditional name a launch. A presence of a such regularity allows us to develop certain recommendations on an inte nsification labour and raising its productivity. In particular we offered to leave from the generally accepted scheme workday to depart from the generally accepted workday scheme: a work — a launch — a work and change it on more complex structure including connecting modes: a work — not a work — a launch — not a work — a work.
Тайный смысл сказки У Лукоморья. Реальная история Руси, или За что убили Пушкина | Теория Дарвина или развлечения ученых? | Теория подарка | Теория теорий. Пособие для молодого ученого | Термодинамика и кинетика взаимопревращений в системе муха — слон | Три принципа научного эффектизма |
Галерея великих математиков | Генетики тоже шутят | Главный русский роман для России и всего человечества | Грач — корень зла |
Nickolas S. Prikhodchenko, Eugene I. Lubyanitsky Three principles of the scientific effectismus
The article is denoted consideration of principles scientific effectismus.
The scientific effectismus is a collection of acceptance and methods of a scientific motivation and determination of a money size remunerating for an executed science and research works allowing exclude even indirect contact with rates of Penal code.
Unlike scientific effectismus is the methods and receiving a determination of the money sizes remunerating for an executed science and research works.
In the article worded three principles of an effectismus: vagueness purposes an effectisation; On itself pay you trade; Don’t have a scientific face but have more FES.
L.I. Yarmolinsky, A.E. Prilutsky, A.E. Zadov, E.I. Lubyanitsky. A shaping some pricing trends in a Russian, Soviet and foreign literature
At present practically all economists — a major, senior, engineers economists, as well as great, of genius and other are occupied to settle price problems and the mechanisms of pricing.
We found that base of the all publications on this actual subjects are judgements, motivations and proof, findings and offer of aforementioned specialists no which doesn’t use in their own working the facts and arguments far-famed in a non-economic literature.
Purpose of proposed review is a correction such position of an deals and hereunder, contribute a weighty contribution to the development of a science.
We made following consectaries:
✓ professional economists ignore a non-economic literature even if it consists of fundamental positions of theory of pricing in the different economic formations; bases of calculating a prime cost; price-list facilities description; bases of pricing in different branches of a public facilities and others;
✓ we made weighty contribution to the development of economic science. Worked out recommendations for the workmans of a pricing, a working in industry, the public facilities, a public cooking, an agriculture, a home servicing a population, in a founding a culture and in a public providences;
✓ the authors suppose rapid growth of the studies in the new direction of economy but they don’t pretend on the fullness of envelopment of a literature, and offer all wanting renew its their own fabrications.
Яковенко | Ярмолинский |
L.I. Yarmolinsky. Thermodynamics and kinetics of interconversion in the fly — elephant system
The problem considered in proposed work, has very long pre-history. Sufficiently recall far-famed formula to make a mountain out of a molehill, that, certainly, presents itself a quoting from some ancient disquisition on a musk-elephology. In the article thereby theoretical motivation have gotten the following empirical laws.
Фридрих Вильгельм Ницше, немецкий мыслитель, классический филолог, композитор, поэт, создатель самобытного философского учения, которое носит подчёркнуто неакадемический характер и получило распространение, выходящее далеко за пределы научно-философского сообщества.

Friedrich Nietzsche. Die fröliche wissenschaft
Diesem Buche thut vielleicht nicht nur Eine Vorrede noth; und zuletzt bliebe immer noch der Zweifel bestehn, ob Jemand, ohne etwas Aehnliches erlebt zu haben, dem Erlebnisse dieses Buchs durch Vorreden naher gebracht werden kann. Es scheint in der Sprache des Thauwinds geschrieben: es ist Uebermuth, Unruhe, Widerspruch, Aprilwetter darin, so dass man bestandig ebenso an die Nahe des Winters als an den Sieg uber den Winter gemahnt wird, der kommt, kommen muss, vielleicht schon gekommen ist… Die Dankbarkeit stromt fortwahrend aus, als ob eben das Unerwartetste geschehn sei, die Dankbarkeit eines Genesenden, — denn die Genesung war dieses Unerwartetste. Frohliche Wissenschaft: das bedeutet die Saturnalien eines Geistes, der einem furchtbaren langen Drucke geduldig widerstanden hat — geduldig, streng, kalt, ohne sich zu unterwerfen, aber ohne Hoffnung -, und der jetzt mit Einem Male von der Hoffnung angefallen wird, von der Hoffnung auf Gesundheit, von der Trunkenheit der Genesung.
Марксизм-ленинизм — идеология, социально-политическое и философское учение о законах борьбы за свержение капиталистического строя и построение коммунистического общества.

Диалектический материализм — философское направление, выведенное из материалистических идей К. Маркса и Ф. Энгельса[1], и развитое Лениным, и другими философами-марксистами.

Карен Араевич Свасьян, советский и армянский философ, историк культуры, литературовед, переводчик и антропософ.

Сатурналии — у древних римлян декабрьский праздник в честь Сатурна, с именем которого жители Лацио связывали введение земледелия и первые успехи культуры.

Философия — особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности и познания, бытия человека, об отношении человека и мира.

Трансфигурация — англицизм латинского происхождения.

Табак | Таврида | Тавры | Тазобедренный сустав | Таксономия | Талмуд | Танк | Таранная кость | Тарталетка | Тартюф, или Обманщик | Татары | Татьяна | Тацит | Твен | Театр | Театр жестокости Арто | Телекинез | Телепатия | Телескоп | Темза | Тенниел | Теология | Теорема | Теорема о бесконечных обезьянах | Теория | Теория игр | Теория множеств | Теория относительности | Теория очередей | Теория предельной полезности | Теория принятия решений | Теплице | Термодинамика | Термометрия | Тернер | Терпандр | Техас | Теща | Тиберий | Тиль Уленшпигель | Тимон Афинский | Тимофеева | Типология | Тиран | Ткач | Токсин | Толковый словарь живого великорусского языка | Толстая | Л. Толстой | Томский | Торговля | Точка сингулярности | Травоядность | Трагедия | Трамп | Трансфигурация | Трегубова | Трепанация черепа | Триггер | Тригонометрия | фон Триер | Триссино | Троцкий | Троянская война | Трубчатая кость | Труд | Трудодень | Тургенев | Турки | Турция | Тыква | Тынянов | Тэтчер | Тюренн | Тюркские языки |
Нирвана — понятие в индийской религиозной мысли, обозначающее высшую цель всех живых существ и играющее важнейшую роль в буддизме.

Греки — народ, сформировавшийся на крайнем юго-востоке Европы в первом тысячелетии до н. э., в настоящее время составляет основное население Греции и Кипра.

Веселая наука | Википедию пытаются признать научным источником | Восхождение к вершинам юмора и шутки | Вы смотрите в космическое пространство и видите, как тихо пролетает чайник |
Джузеппе Мадзини — итальянский политик, патриот, писатель и философ, сыгравший важную роль в ходе первого этапа движения за национальное освобождение и либеральные реформы в XIX веке.

Александр Владимирович Перцев — советский и российский философ, доктор философских наук, профессор и декан философского факультета Уральского государственного университета.
ИА Панорама сообщает | Из huxleў | Из Агнии Огонек | Из Андрея Козака | Из Геннадия Аминова | Из-за сдвига литосферных плит Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджана | Из Михаила Прохоровича | Из Центра исследования Сахара им. Чайкофского | Из Юрия Нестеренко | Инженер и гуманитарии | Институт Виноградова рекомендует переименовать русский язык в российский | Интересные факты о пиве | Ироническая ретроскопия | Испанские монархи наградили ученых за их чувство юмора | Испанские ученые считают юмор отдельной наукой |
Эрос — божество любви в древнегреческой мифологии, безотлучный спутник и помощник Афродиты, олицетворение любовного влечения, обеспечивающего продолжение жизни на Земле.

Юмор | Ютуб о гопниках |
Наполеон I Бонапарт — император французов в 1804 — 1814 и 1815 годах, полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада.

Моисей, в Пятикнижии — еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма, организовал Исход евреев из Древнего Египта, сплотил израильские колена в единый народ.

Сократ — древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в философии — от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека.

Гистрион — в Древнем Риме так называли профессиональных актёров, составлявших труппу; в эпоху раннего Средневековья это наименование было распространено на народных бродячих актёров.

Бенедикт Спиноза — нидерландский философ-рационалист и натуралист еврейского происхождения, один из главных представителей философии Нового времени.

Физика — область естествознания: наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении.

Марк Порций Катон Старший — древнеримский политик и писатель, известный как новатор римской литературы и консервативный борец против пороков и роскоши.

Окакура Какудзо — японский писатель, художественный критик, оказавший значительное влияние на современное японское искусство.

Римляне — народ, зародившийся на территории Апеннинского полуострова, в регионе Лациум, в пределах города Рим.

Рабле | Рабочая сила | Рабоче-крестьянская Красная армия | Рабочий день | Раввин | Равновесие | Радар | Радиация | Радость | Раёшники | Развлечение | Разночинцы | Райское яблоко | Рак | Рама | Раневская | Ранкур-Лаферрьер | Расизм | Расин | Раскоп | Рассказ | Растениеводство | Растения | Рафаэль | Реагент | Реакция в политике | Реальность | Ребенок | Революция | Резервное копирование | Н. Рейган | Р. Рейган | Релевантность | Религия | Реликвия | Ремарка | Ренессанс | Репин | Репрессии | Рефлексия | Реформация | Рим | Речения с Лазурного утеса | Римляне | Рис | Ритм | Риторика | Рифма | Родина | Родительный падеж | Рожа | Рождественский | Рождество Христово | Рок | Роман | Романовы | Ромео | Роскошь | Российская академия наук | Россия | Ростовы | Рот | Роторный траншейный экскаватор | Рубенс | Рубль | Рука | Руслан и Людмила | Русская душа | Русский язык | Руссо | Рыбы | Рыков | Рынок | Ряженые |
Европа — часть света в Северном полушарии Земли, омывается морями Северного Ледовитого и Атлантического океанов, имеет площадь около 10 млн км² и население примерно 742,5 млн. человек.

Ева | Евангелие | Евгений Онегин | Евреи | Европа | Евтушенко | Елена Прекрасная | Ельцин | Ельцина | Ересь | Есенин | Естественный отбор | Естествознание |
Cамые красивые математические формулы определены по инициативе украинского физика | Свидетельства очевидцев | Случай с Менделеевием | Смешные новости | Список использованной литературы | Список использованной литературы | Старая добрая филолого-математическая забава или цифровой век поэзии | Статьи о Shaman King | Стихотворение Корнея Чуковского Тараканище запретили в Беларуси |
Помпеи — древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 AD.

Вагнер | Вакуум | Вакцина | Ватт | Вдовство | Ведро | Ведьма | Век разума | Великая Китайская стена | Великая французская революция | Великие реформы | Великобритания | Величество | Велосипед | Вена | Венчание | Вера | Веревка | Вероятность | Вертинский | Весна | Вечность | Вечный двигатель | Видообразование | Византистика | Викинги | Википедия | Вильнюс | Винительный падеж | Вино | Виноград | да Винчи | Вирилизм | Вирусы | Вирхов | Височная доля | Височная кость | Витализм | Витамин D | Вифлеем | Вице-президент | Вишну | Включённое наблюдение | Владимир Мономах | Власть | Внутривидовая борьба за существование | Вовочка | Вода | Водевиль | Водка | Водолаз | Вождь | Воздух | Вознесение | Возрождение | Воинское звание | Война и мир | Вокруг смеха | Волга | Волга-Волга | Волков | Волочиск | Волькенштейн | Вольт | Вольтер | Воля | Воспроизводство | Восстание Пугачева | Восток | Враг народа | Враг народа | Вселенная | Время | Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем | Вторая мировая война | Вуду | Вуз | Вулкан | Вульгарность | ВЦИОМ | Высоцкий | Вычислительная математика |
Ифигения — в древнегреческой мифологии первоначально эпитет Артемиды, почитавшейся и в историческое время с этим прозвищем в Гермионе и других местах.

Логика — раздел философии, нормативная наука о формах, методах и законах интеллектуальной познавательной деятельности, формализуемых на логическом языке.

Марк Валерий Марциал — римский поэт-эпиграмматист, в творчестве которого эпиграмма стала тем, что мы сейчас понимаем под этим литературным термином.

Генерал Декстер | Гостев | Грач — корень зла | Губарев | Гусейнов | Гусейнов | Гусейнов |
Великая французская революция — крупнейшая трансформация социальной и политической системы Франции, приведшая к уничтожению в стране Старого порядка и абсолютной монархии, и провозглашению Первой французской республики де-юре свободных и равных граждан под девизом Свобода, равенство, братство.

Каллимах из Кирены — один из наиболее ярких представителей александрийской поэзии, учёный-критик, библиограф.

Терпандр — древнегреческий поэт и музыкант, уроженец лесбосского города Антиссы, легендарный основатель греческой классической музыки и лирической поэзии, эолийской и дорийской.

Damon and Pythias is a legend illustrating the Pythagorean ideal of friendship.

Дельфы — древнегреческий город в юго-восточной Фокиде, общегреческий религиозный центр с храмом и оракулом Аполлона.

Аполлон — в древнегреческой мифологии златокудрый сребролукий бог света, покровитель искусств, предводитель и покровитель муз, предсказатель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев и основывающихся древнегреческих колоний, также очищал людей, совершивших убийство.

Герольд — глашатай, вестник, церемониймейстер при дворах королей, крупных феодалов; распорядитель на торжествах, рыцарских турнирах.

Манфред — философско-драматическая поэма-трагедия лорда Байрона, впервые в полном виде опубликованная в июне 1817 года.

Гашиш — общее название целого ряда психотропных продуктов из конопли, представляющих собой смолу каннабиса, изготавливающуюся путём прессования порошка, получаемого в результате высушивания и измельчения или просеивания высушенных листьев и липких маслянистых слоёв с цветущих верхушек растения.

Орфей — легендарный певец и музыкант — исполнитель на лире, чьё имя олицетворяло могущество искусства.

Жан-Жак Руссо — французский философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения родился в республике Женева.

Данте Алигьери — итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель. Создатель Комедии, в которой был дан синтез позднесредневековой культуры.

Иоганн Вольфганг фон Гете — немецкий писатель, мыслитель, философ и естествоиспытатель, государственный деятель.

Проспер Мериме — французский писатель и переводчик, один из первых во Франции мастеров новеллы, историк, этнограф и археолог.

Ральф Уолдо Эмерсон — американский эссеист, поэт, философ, пастор, лектор, общественный деятель; один из виднейших мыслителей и писателей США.

Уолтер Сэвидж Лэндор — английский поэт писавший с одинаковым совершенством по-английски и по-латыни.

Imaginary Conversations is a publication consisting of five volumes of imaginary conversations, mainly between historical people of classical Greece and Rome, composed by the English author Walter Savage Landor.

Девушки = Зло | Динь-динь лингвистика | Для зубрил. 40 знаков числа π | Для устранения противоречий с Конституцией РФ депутаты внесут поправки в III закон Ньютона | Дятел | Дятлы, воины света… |
Фанфики | Физика в мире животных: дятел и его отбойный молоток | Физики: есть чёрная дыра, стирающая прошлое и дающая бесконечное будущее | Фразы, за которые лет 25 назад можно было угодить в дурдом
Шагинян | Шампанское | Шамфор | Шариков | Шарпей | Шахматный этюд | Шахматы | Швеция | Швондер | Шекспир | Шендерович | Шизофрения | Шитье | Шишкин | Шкловский | Школа | Школа жен | Шолохов | Шопенгауэр | Шоу | Шпионаж | Штирлиц | Шут | Шутка |
Оноре Габриэль Рикетти де Мирабо — деятель Великой Французской революции, один из самых знаменитых ораторов и политических деятелей Франции, масон.

Мартин Лютер — христианский богослов, инициатор Реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык.

Иммануил Кант — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и романтизма.

Томас Карлейль — британский писатель, публицист, историк и философ шотландского происхождения, автор многотомных сочинений Французская революция.

Уильям Шекспир — английский поэт и драматург, зачастую считается величайшим англоязычным писателем и одним из лучших драматургов мира.

Марк Юний Брут — римский политический деятель и военачальник из плебейского рода Юниев, известный в первую очередь как убийца Гая Юлия Цезаря.

О дятлах | Обезьяний бензол | Обезьяны смогли напечатать поэму Шекспира | Обнаружены коллективные эффекты в поведении физиков-теоретиков | Оказывается, муравьи вовсе не любят работать, выяснили ученые | Октябрята, берегите оссиконы с детства | Опасность экономической науки | Оседание литосферной плиты: определена причина экологической катастрофы на Камчатке | От редакции | От редакции | От редакции | Офисный попкорн россыпью | Очередная подборка фактов о пиве |
Людвиг ван Бетховен — немецкий композитор и пианист, последний представитель венской классической школы.

Средние века — период истории Европы и Ближнего Востока, следующий после Античности и предшествующий Новому времени

Жан-Батист Расин — французский драматург, один из трёх выдающихся драматургов Франции XVII в., наряду с Корнелем и Мольером, автор трагедий Андромаха, Британик, Ифигения, Федра.

Унтер-офицер — нижние чины и категория младшего командного и начальствующего состава в вооружённых силах разных государств и стран, условно соответствующая сержантско-старшинскому составу в советских, а затем и в российских ВС.

Будда в буддизме — наиболее высокое состояние духовного совершенствования, либо имя Будды Шакьямуни, либо имя одного из других бесчисленных существ, достигших просветления.

Млечный Путь — галактика, в которой находятся Земля, Солнечная система и все отдельные звёзды, видимые невооружённым глазом.

Антропоморфизм — перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевлённые предметы, на одушевлённых существ, на явления и силы природы, на сверхъестественных существ, на абстрактные понятия и др.

Элеаты — древнегреческая философская школа раннего периода, существовавшая в конце VI − первой половине V веков BC, в городе Элее, в Великой Греции.

Аристон Хиосский — древнегреческий философ-стоик, ученик Зенона Китийского.

Эпиктет — древнегреческий философ-стоик; раб в Риме, потом вольноотпущенник; основал в Никополе философскую школу.

Франсуа VI де Ларошфуко — французский писатель, автор сочинений философско-моралистического характера.

Requiem Æternam — молитва, используемая в Римско-католической церкви, в которой просят Бога об освобождении душ верующих из Чистилища.

Бенарес — главный город одноимённой области в северо-восточной Индии, город, имеющий для индусов такое же значение, как Рим для католиков, средоточие брахманской учёности.

Аллах в арабском языке — термин обозначающий слово Бог — арабское слово, означающее единого и единственного Бога, творца мира и господина Судного дня.

Буддизм — религиозно-философское учение о духовном пробуждении, возникшее в середине 1 тысячелетия BC в Древней Индии.

Прометей — один из титанов в древнегреческой мифологии, защитник людей от произвола богов, царь скифов.

Иисус Христос — в христианстве центральная личность и предсказанный в Ветхом Завете Мессия, ставший искупительной жертвой за грехи людей.

Иегова — вариант транскрипции одного из имён Бога в русских переводах Ветхого Завета и художественных произведениях, соответствующий тетраграмматону в оригинальном тексте Библии на древнееврейском языке.

Человек — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, а также субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

Звери — подкласc млекопитающих, объединяющий всех современных живородящих млекопитающих, которые рожают детёнышей без откладывания яиц.

Политеизм — система верований, религиозное мировоззрение, основанное на вере в нескольких божеств, обычно собранных в пантеон из богов и богинь.

Недочеловек — философско-антропологический; впоследствии пропагандистский расистско-евгенический термин из идеологии немецких национал-социалистов.

Фея — в кельтском и германском фольклоре — мифологическое существо метафизической природы, обладающее необъяснимыми, сверхъестественными способностями, ведущее скрытый образ жизни и при этом имеющее свойство вмешиваться в повседневную жизнь человека — под видом добрых намерений, нередко причиняя вред.

Кентавр — в древнегреческой мифологии дикие смертные существа с головой и торсом человека на теле лошади, обитатели гор и лесных чащ.

Сатиры — в греческой мифологии лесные божества, демоны плодородия, жизнерадостные козлоногие существа, населявшие греческие острова.

Демон — собирательное название сверхъестественных существ или духов, занимающих низшее по сравнению с богами положение, и бывающих как хорошими, так и плохими.

Монотеизм — религиозное представление о существовании только одного Бога или о единственности Бога.

Опиум — сильнодействующий наркотик, получаемый из высушенного на солнце млечного сока, добываемого из недозрелых коробочек снотворного мака.

Наркотик — согласно определению ВОЗ — химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли.

Водка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и спиртовым запахом.

Татары — тюркский этнос, живущий в центральных областях европейской части России, в Поволжье, Приуралье, в Сибири, Казахстане, Средней Азии, СУАР и на Дальнем Востоке.

Септуагинта — собрание переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык, выполненных в III — I веках BC в Александрии.

Реформация — широкое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI — начала XVII века, направленное на реформирование католической Церкви.

Древняя Греция — древняя страна, территория государств, населённых древнегреческими племенами и занимавших юг Балканского полуострова с примыкающими с востока островами Эгейского моря, побережье Фракии, западное побережье Малой Азии и часть острова Кипр и распостранивших своё влияние в период греческой колонизации VIII — VI вв. BC на востоке — на район черноморских проливов, побережье Чёрного и Азовского моря, на юге — побережье Северной Африки, на западе — на Южную Италию, восточную Сицилию, юг Галлии и северо-восточное побережье Испании.

Пифагор Самосский — древнегреческий философ, математик и мистик, создатель религиозно-философской школы пифагорейцев.

Орфизм — мистическое учение в Древней Греции и Фракии, связанное с именем мифического поэта и певца Орфея.

Метафизика — раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, мира и бытия как такового.

Эгоизм — поведение, целиком определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде, в том числе когда индивид ставит свои интересы выше интересов других.

Массачусетский технологический институт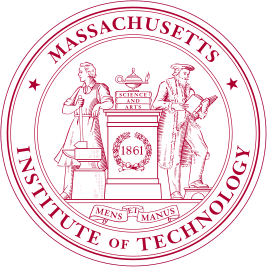
Массачусетский технологический институт — университет и исследовательский центр, расположенный в Кембридже, штат Массачусетс, США.

QS World University Rankings is an annual publication of university rankings by Quacquarelli Symonds.

Jevgeni Nikolajev. Wikipedia is trying to recognize the scientific source
The most prestigious university in the world has published a research paper that clearly explains the influence of Wikipedia on the development of science. Now you can argue a little with teachers about the use of the resource for homework!
Aleksandr Tkach. The Wikipedia stagnation: why is it harder to trust?
Fears of skeptics are confirmed by statistics: Wikipedia reached its peak in 2007 – 2008 and since then has come closer and closer to stagnation.
С юмором о религиозных вопросах без ответов | Смешная тайна щекотки | Стагнация Википедии: почему доверять ей все сложнее? |
Википедия — общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах вики.

Бульварная пресса — обозначение изданий печатной прессы, распространяемых по достаточно низкой цене и специализирующихся на слухах, сенсациях, скандалах, сплетнях о жизни известных людей.

Порнография — отображение сексуального поведения в литературе, изображениях, скульптурах, фильмах и др. с целью вызвать сексуальное возбуждение; по одному из определений, эротическое вне художественного.

Краудсорсинг — привлечение к решению тех или иных проблем инновационной производственной деятельности широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и опыта по типу субподрядной работы на добровольных началах с применением инфокоммуникационных технологий.

PC Pro is one of several computer magazines published monthly in the United Kingdom by Dennis Publishing.

Интерфейс — общая граница между двумя функциональными объектами, требования к которой определяются стандартом; совокупность средств, методов и правил взаимодействия между элементами системы.

Фонд Викимедиа — некоммерческая благотворительная организация, которая поддерживает инфраструктуру для работы ряда мультиязычных краудсорсинговых вики-проектов, включая Википедию, Викисловарь, Викицитатник, Викиучебник, Викитеку, Викигид, Викисклад, Викиданные, Викивиды, Викиновости, Викиверситет, Инкубатор Викимедиа и Мета-вики, а также была владельцем ныне неработающего энциклопедического проекта Nupedia.

ClueBot NG, the most famous bot that fights vandalism.

Citizendium — проект, предложенный 15 сентября 2006 одним из основателей Википедии — Ларри Сэнгером.

Scholarpedia — энциклопедия в Интернете, работающая на программном обеспечении MediaWiki, статьи в которой пишутся учёными и экспертами в соответствующей предметной области и проходят обязательное рецензирование.

Британская энциклопедия — американская универсальная энциклопедия, старейшая англоязычная универсальная энциклопедия.

Quora — социальный сервис обмена знаниями, своеобразный онлайн-рынок вопросов и ответов, основанный в июне 2009 года Адамом д’Анджело и Чарли Чивером.

Jorge Cauz is an American businessman of Mexican descent and the president of Encyclopædia Britannica Inc., the publishers of the Encyclopædia Britannica, a position to which he was appointed in November 2003.

Симбиоз — форма тесных взаимоотношений между организмами разных видов, при которой хотя бы один из них получает для себя пользу.

Knol — сайт, созданный фирмой Google и позволяющий пользователям публиковать статьи различной тематики.

Knowledge Graph — семантическая технология и база знаний, используемая Google для повышения качества своей поисковой системы с семантическо-розыскной информацией, собранной из различных источников.

Гамлет — трагедия Уильяма Шекспира в пяти актах, одна из самых известных его пьес, и одна из самых знаменитых пьес в мировой драматургии.

Иоахим Мюрат — наполеоновский маршал, великий герцог Берга в 1806 — 1808 годах, король Неаполитанского королевства в 1808 — 1815 годах.

Обер-церемониймейстер Папского двора — главный служитель церемоний Святого Престола, в то же время выполняющим управленческие функции в Службе папских литургических церемоний.

Иоганн Георг Фауст — полулегендарный бродячий доктор, чернокнижник, живший в первой половине XVI в. в Германии.

Цербер — в греческой мифологии порождение Тифона и Ехидны, трёхголовый пёс, у которого из пастей течёт ядовитая смесь.

About Russia | Academia.edu | ADME | Alter Science | Alter Science | American Psychologist | AnswersTM | APA | AutumLuis |
Facebook | Facebook | Facebook | Facebook | Facebook | Facebook | Facebook | Facebook | Faculty History Project |
The UNESCO Courier | The Universe of Discourse | University of Glasgow PGR BLOG | University of Glasgow PGR BLOG |
Phismat | Prikolov.NET | Production Engineering | The Psychologist… |
SAGE journals | Sam Loman | Samanta | The Science | Science reports | sly2m | Svět socialismu |
KABAR | KnowledgeNuts | KnowledgeNuts | Korzik.net | kukmor |
The Leading Edge | Legal | Liveinternet | Livejournal | Livejournal | Livejournal | Livejournal | Livejournal | Livejournal | Livejournal | Liveinternet | Livejournal |
Ф. Клейн. Лекции о развитии математики в XIX столетии | Факты | Фитнес для мозга | Фитхакер | Формирование некоторых ценообразовательных тенденций в русской, советской и зарубежной литературе |
Абсурдопедия | Агния Огонек | АиФ | Академия подарка | Алкофан | Альберт Эйнштейн. Афоризмы | Альберт Эйнштейн. Творческая биография | Андрей Козак | Антропогенез.ру | Аргументы и факты |
Лаития | Лебег А. Об измерении величин | Лебег А. Об измерении величин | Лев Толстой против всех | Леонид Каганов | Лолгические задачи и головоломки |
Чай | Чайная лавка | Чайная лавка | Чёртова задница |
Э. По. Украденное письмо, переведенное К.Д. Бальмонтом | ЭКО | Элементы | Элементы | Элементы | Элементы | Энциклопедия Кругосвет | Эрудит |
ИА Панорама | ИА Панорама | ИА Панорама | ИА Панорама | ИА Панорама | ИА Панорама | ИА Панорама | ИА Панорама | ИноСМИ | Интересно | Интересные факты | Ироническая ретроскопия |
Партнерский вестник | Пивология | Пивология | Полная подборка лучших высказываний Виктора Черномырдина | Портал Чернигова | Постнаука | Правда | Правда | Правда | Предисловие к книге Наука выбирать и поступать. Книга вторая | Пси-фактор | Психология PRO | Публикуется по материалам социальных сетей | Публикации Детской Академии — Веселой Научной Враки |
Утечки. Секретные материалы, не попавшие в прицел СМИ | Ученые шутили | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят | Ученые шутят |
Світ мам | Сегодня | Слово о ПК и PC, или Хроника рефлексирующего сисадмина | Смешные новости | Собака.ru | Статьи о Shaman King | Сюреал да реасюр да ирреал да гиперреал перекомбинаций поэпрозы и прозоэзии |
В городе N | Веселая наука | Веселая наука | Веселая наука | Вконтакте | Всі Суми |
che_telcontar | CREU |
Alice | Allegra | AutumnLuis |
Свинец — элемент 14-й группы, шестого периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 82 и, таким образом, содержит магическое число протонов.

Майстер Экхарт — средневековый немецкий теолог и философ, один из крупнейших христианских мистиков, учивший о присутствии Бога во всём существующем.

Стоицизм — философская школа, возникшая в Афинах ок. 300 г. до н. э. во времена раннего эллинизма и сохранившая влияние вплоть до конца античного мира.

Алжир — государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство.

Оливер Кромвель — английский государственный деятель и полководец, вождь индепендентов, руководитель Английской революции, в 1643 — 1650 годах — генерал-лейтенант парламентской армии, в 1650 — 1653 годах — лорд-генерал, в 1653 — 1658 годах — лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии.

Новый Свет — название Америки, данное ей европейскими первооткрывателями в конце XV века, противопоставляет Америку Старому Свету — Европе, Азии и Африке — ввиду того, что ранее европейцам была знакома лишь география Старого Света, но не Нового.

Публий Корнелий Тацит — древнеримский историк, один из самых известных писателей античности, автор трёх небольших сочинений и двух больших исторических трудов.

К вопросу о субъективном ощущении термальной комфортности | Как же Путин стал дедушкой | Комсомольская правда | Конт | КП в Украине | Красный Солитон | Красный Солитон |
Наука выбирать и поступать. Книга вторая | Наука и жизнь | Наука и техника | Независимая газета | НЛО | Новый взгляд на время | Новый мир. Проект Мидгард-ЭДЕМ |
Заратустра — основатель зороастризма, жрец и пророк, которому было дано Откровение Ахура-Мазды в виде Авесты — священного писания зороастризма.

Анри де Ла Тур д’Овернь Тюренн известный под именем Тюренн, — знаменитый французский полководец, маршал Франции и главный маршал Франции.

Библия — собрание текстов, являющихся священными в иудаизме и христианстве и составляющих Священное Писание. 
Религия — определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации.

Фатализм — вера в предопределённость бытия; мировоззрение, в основе которого убеждённость в неизбежности событий, которые уже запечатлены наперёд и лишь проявляются как изначально заложенные свойства данного пространства. 
Фанатизм — слепое, безоговорочное следование убеждениям с обязательным навязыванием своей точки зрения другим, особенно в религиозной, национальной и политической областях; доведённая до радикальности приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям.

Идиосинкразия — генетически обусловленная реакция, возникающая у некоторых людей в ответ на определённые неспецифические раздражители.

Протестантизм — одно из трёх, наряду с православием и католицизмом, главных направлений христианства, представляющее собой совокупность независимых церквей, церковных союзов и деноминаций. 
Перикл — афинский государственный деятель, один из отцов-основателей афинской демократии, знаменитый оратор и полководец.

Флора — исторически сложившаяся совокупность видов растений, распространённых на конкретной территории или на территории с определёнными условиями в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи.

Фауна — исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих на определённой территории.

Макиавеллизм — термин в политологии, обозначающий государственную политику, основанную на культе грубой силы, пренебрежении нормами морали и тому подобном.

Отто фон Бисмарк — первый канцлер Германской империи, осуществивший план объединения Германии по малогерманскому пути.

Готфрид Вильгельм Лейбниц — немецкий философ, логик, математик, механик, физик, юрист, историк, дипломат, изобретатель и языковед.

Рене Декарт — французский философ, математик, механик, физик и физиолог, создатель аналитической геометрии и современной алгебраической символики, автор метода радикального сомнения в философии, механицизма в физике, предтеча рефлексологии.

Дэвид Юм — шотландский философ, представитель эмпиризма, психологического атомизма, номинализма и скептицизма; по мнению ряда исследователей, агностик, предшественник второго позитивизма, экономист и историк, публицист, один из крупнейших деятелей шотландского Просвещения.

Чарльз Роберт Дарвин — английский натуралист и путешественник, одним из первых пришедший к выводу и обосновавший идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходят от общих предков.

Дарвинизм — в узком смысле — направление эволюционной мысли, приверженцы которого согласны с основными идеями Дарвина в вопросе эволюции, согласно которым главным фактором эволюции является естественный отбор.

Интуиция — способность, свойство человека понимать, формировать и проникать в смысл событий, ситуаций, объектов посредством инсайта, озарения, единомоментного подсознательного вывода, основанного на воображении, эмпатии и предшествующем опыте, чутьё, проницательность.

Аврелий Августин — христианский богослов и философ, влиятельнейший проповедник, епископ Гиппонский, один из Отцов христианской церкви.

Ренессанс — имеющая мировое значение эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам и предшествующая Просвещению и Новому времени.

Сенсуализм — направление в теории познания, согласно которому ощущения и восприятия — основная и главная форма достоверного познания.
Христианство — авраамическая мировая религия, основанная на жизни и учении Иисуса Христа, описанных в Новом Завете.

Питер Пауль Рубенс — нидерландский живописец, один из основоположников искусства барокко, дипломат, коллекционер.

Альтруизм — понятие, которым осмысляется активность, связанная с бескорыстной заботой о благополучии других; соотносится с понятием самоотверженность — то есть с приношением в жертву своих выгод в пользу блага другого человека, других людей или в целом — ради общего блага.
Герберт Спенсер — английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользовались большой популярностью в конце XIX века, основатель органической школы в социологии; идеолог либерализма.

Фермата — знак музыкальной нотации, предписывающий исполнителю увеличить по своему усмотрению длительность ноты, обычно в 1,5 — 2 раза, но возможно и более вплоть до пока не растает звук.

Анри Сен-Симон — французский философ, социолог, известный социальный реформатор, основатель школы утопического социализма.

Французы — романоязычный западноевропейский народ смешанного кельтско-романско-германского этногенеза, основное население Франции.
Галлы — племена кельтской группы, жившие на территории Галлии с начала V века до н.э. до римского периода.

Немцы — народ, произошедший от древних германцев, основное население Германии, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна.
Сэр Исаак Ньютон английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики.
K. Glinka. Humor Theory
Humor is a bloodless verbal fight aiming to raise your status and strengthen your position. Even a friendly banter is a sort of intellectual clash, a kind of training before serious battles. In fact, we try to figure out who’s the boss in the family when we poke fun at our loved ones.
If laughter is akin to aggression, why women have a liking for jesters?
A sense of humor is a strong male quality. It is a sign of good intellect. Evolution stakes precisely on the intellect since a smart fellow has more chances of survival. That is why a sense of humor can be a much bigger sign of masculinity than the pumped-up muscles.
Джордж Бернард Шоу — выдающийся ирландский драматург и романист, лауреат Нобелевской премии в области литературы и один из наиболее известных ирландских литературных деятелей.
John Morreall is a Doctor of Philosophy and Emeritus Professor of Religious Studies at the College of William and Mary in Williamsburg, Virginia.
Древний Египет — название исторического региона и культуры значительной цивилизации Древнего мира, существовавшей на северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил.
Папирус — писчий материал, в древности распространённый в Египте, а позднее — на всём пространстве античного мира.
Смех — одна из реакций человека на юмор или щекотку, проявления которой включают в себя специфические звуки и непроизвольные движения мышц лица и дыхательного аппарата.
Инстинкт самосохранения — это врожденная форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности.
Сексуальное или половое поведение человека — совокупность психических реакций, установок и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения человека.

Методология науки — это учение о методах и процедурах научной деятельности, а также раздел общей теории познания, в особенности теории научного познания и философии науки.
Психология — наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
Юмореска (литература) — короткое прозаическое или стихотворное произведение шутливого характера, юмористическая миниатюра.
Карикатура — сатирическое или юмористическое изображение, в котором комический эффект создаётся преувеличением и заострением по мнению некоторых неприятных, ужасных черт, неожиданными сопоставлениями и уподоблениями.

Перестройка — масштабные перемены в идеологии, экономической и политической жизни СССР во второй половине 1980.

Памфлет — разновидность художественно-публицистического произведения, вид политической литературы, брошюра или статья резко обличительного содержания.
Масонская ложа — место, помещение, где собираются масоны для проведения своих собраний, чаще называемых работами.

Максим Максимович Литвинов — революционер, советский дипломат и государственный деятель, народный комиссар по иностранным делам СССР.

Владимир Владимирович Путин — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
Марк Фабий Квинтилиан — римский ритор, автор Наставлений оратору — самого полного учебника ораторского искусства, дошедшего до нас от античности.
Томас Гоббс — английский философ-материалист, один из основателей теории общественного договора и теории государственного суверенитета.
Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского — сочинение английского философа Томаса Гоббса, посвящённое проблемам государства.
Критика чистого разума — философский труд Иммануила Канта, впервые опубликованный в 1781 году в Риге.
Остроумие и его отношение к бессознательному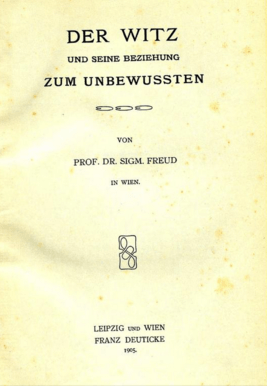
Остроумие и его отношение к бессознательному — работа австрийского психоаналитика Зигмунда Фрейда, опубликованная в 1905.
Макс Форрестер Истмен — американский журналист, писатель, поэт, литературный критик и радикальный политический активист.
Anthony Mario Ludovici was a British philosopher, sociologist, social critic and polyglot. He is best known as a proponent of aristocracy, and in the early 20th century was a leading British conservative author. He wrote on subjects including art,[1] metaphysics, politics, economics, religion, the differences between the sexes, race, health and eugenics.
Новый Завет — собрание книг, представляющее собой одну из двух, наряду с Ветхим Заветом, частей Библии.
Смех: Эссе о значимости комичного — философское эссе, опубликованное французским философом Анри Бергсоном в 1900.
Николай Гаврилович Чернышевский — русский философ-материалист, революционер-демократ, энциклопедист, теоретик критического утопического социализма, учёный, литературный критик, публицист и писатель.
Пьер Жюль Теофиль Готье — французский прозаик и поэт романтической школы, журналист, критик, путешественник.
Hasan Huseynov. How did Putin become a granddaddy?
Philologist reflects on how the ‘young horseman and the sterharmer’ suddenly turned into a granddaddy.
Анатолий Александрович Собчак — советский и российский учёный-правовед, политический деятель, первый мэр Санкт-Петербурга.
Леонид Ильич Брежнев — советский государственный и партийный деятель, занимавший высшие руководящие должности в СССР в течение 18 лет, участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945.
Иосиф Виссарионович Сталин — российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель.
Крошка Цахес, по прозванию Циннобер — сказочная повесть-гротеск немецкого романтика Э.Т.А. Гофмана.
Виктор Анатольевич Шендерович — российский прозаик, поэт, драматург, сценарист, теле- и радиоведущий, сатирик, либеральный публицист, педагог, журналист.
Телепрограмма Куклы — развлекательная сатирическая телевизионная передача продюсера Василия Григорьева на острые темы актуальной российской политики.
Москва — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
Мэр — глава администрации, глава исполнительной власти населённого пункта, чаще всего города, в некоторых государствах и странах — и небольшого региона.

Елена Николаевна Батурина — российская предпринимательница, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями Газпрома и Сбербанка.
Надежда Константиновна Крупская — российская революционерка, советская государственная, партийная, общественная и культурная деятельница, организатор и главный идеолог советского образования и коммунистического воспитания молодежи.
Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка, общественный и политический деятель, менеджер.
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем — специальный орган безопасности Советского государства.
Лев Давидович Троцкий — революционный деятель XX века, идеолог троцкизма — одного из течений марксизма.
Александр Вальтерович Литвиненко — подполковник советской и российской госбезопасности, в 1988—1999 годах — сотрудник КГБ — ФСБ, где специализировался на борьбе с терроризмом и организованной преступностью.
Павел Анатольевич Судоплатов — советский разведчик, диверсант, сотрудник ОГПУ, перед арестом в 1953 году — генерал-лейтенант МВД СССР.

Филипп Денисович Бобков — руководящий работник советских органов государственной безопасности, участник Великой Отечественной войны.

Сергей Викторович Скрипаль — советский, российский и британский военный разведчик, до 1999 сотрудник ГРУ, полковник.
Аминокислоты — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.
Артур Кестлер — британский писатель и журналист, уроженец Венгрии, еврейского происхождения.
Донбасс — историко-географическая область в границах образовавшейся в результате общего исторического развития и тесного переплетения экономической деятельности ряда промышленных городов на востоке Украины.
Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области — авиационная катастрофа, произошедшая 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и формированиями непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик.
Запад — совокупность культурных, политических и экономических признаков, объединяющих страны Северной Америки и Европы и выделяющих их на фоне других государств мира.
Лазарь Моисеевич Каганович — советский государственный, хозяйственный и партийный деятель, близкий сподвижник И.В. Сталина.
Психоанализ — психологическая теория, разработанная в конце XIX — начале XX века австрийским неврологом Зигмундом Фрейдом, а также чрезвычайно влиятельный метод лечения психических расстройств, основанный на этой теории.

Дэниел Ранкур-Лаферрьер — американский литературовед-русист и культуролог, специалист по изучению русской культуры методами психоанализа.
Витализм — устаревшее учение о наличии в живых организмах нематериальной сверхъестественной силы, управляющей жизненными явлениями — жизненной силы.

Гомосексуальность — предпочтение представителей своего пола в качестве объекта любовных отношений, эротического влечения и/или сексуального партнёра.
Александр Николаевич Вертинский — русский и советский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец, кумир эстрады первой половины XX века.
Этнология — наука, изучающая этнические процессы, под которыми понимаются разнообразные аспекты жизнедеятельности этносов, а также других этнических общностей.
Борис Николаевич Ельцин — советский и российский партийный, государственный и политический деятель.
Наина Иосифовна Ельцина — супруга 1-го президента России Бориса Ельцина, первая леди России с 1991 по 1999.
Людмила Александровна Путина — бывшая супруга второго президента России Владимира Путина, с которым она прожила в браке около 30 лет.
Александр Сергеевич Залдостанов — советский и российский байкер, основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба Ночные волки, глава общественной некоммерческой организации Русские мотоциклисты при клубе, президент Российской ассоциации байкеров, генеральный директор Байк-центра при клубе в Москве и представительства в России клуба Секстон.
Жан Альфред Виллен-Маре — французский актёр, постановщик, писатель, художник, скульптор, а также каскадёр.
Александр Николаевич Поскрёбышев — государственный, политический и партийный деятель СССР.
Джон Мильтон — английский поэт, политический деятель и мыслитель; автор политических памфлетов и религиозных трактатов.
Михаил Михайлович Бахтин — русский философ, культуролог, теоретик европейской культуры и искусства.
Александр Наумович Лук — советский учёный-философ, специалист по теории творчества и науковедению, врач-невропатолог, переводчик; кандидат философских наук.
Анатолий Васильевич Дмитриев — советский и российский социолог, политолог, один из основателей российской конфликтологической науки, доктор философских наук, профессор.
Улыбка — выразительные движения мышц лица, показывающие расположение к смеху или выражающие удовольствие, приветствие, радость, доброжелательность либо иронию, насмешку.
Анатомия — раздел биологии и конкретно морфологии, изучающий строение тела организмов и их частей на уровне выше тканевого.
Мускулы — часть опорно-двигательного аппарата в совокупности с костями организма, способная к сокращению.
Приматы — один из наиболее прогрессивных отрядов плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и человека.
Египетские пирамиды — древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.
Театр — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других, и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр.
Карнавал — праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями, отмечаемый перед Великим постом.
Юрий Борисович Борев — советский и российский литератор, критик, прозаик, доктор филологических наук, заведующий отделом теории ИМЛИ РАН, профессор Академии архитектуры Московского архитектурного института, действительный член Международной ассоциации эстетиков, академик и президент Независимой академии эстетики и свободных искусств.
Леонид Владимирович Карасев — советский и российский философ, специалист по эстетике и герменевтике художественного текста и философии культуры.
Онтология — учение о сущем; учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, структуру и закономерности.
Жабры | Жажда | Жванецкий | Жданов | Жевательный аппарат | Желание | Железный занавес | Жёлтая пресса | Жена | Жених | Женщина | Живопись | Живот | Животворящий Крест | Животноводство | Животные | Животные жиры | Жизнедеятельность | Жизнь | Жилищно-коммунальные услуги | Журналист |
Животные — традиционно выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматривается в качестве биологического царства.
Рефлексия — обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление.
Щекотка | Щелкунчик || Щитовидная железа |
International Journal of Humor Research is a peer-reviewed academic journal published by Walter de Gruyter on behalf of the International Society for Humor Studies.
Университет Пердью — общественный университет исследования естественных наук в США, расположенный в городе Уэст-Лафейетт, штат Индиана, главный из шести кампусов Системы университетов Пёрдью.
Salvatore Attardo is a full professor at Texas A&M University–Commerce and the editor-in-chief of Humor, the journal for the International Society of Humor Research.
Марвин Ли Минский — американский учёный в области искусственного интеллекта, сооснователь Лаборатории искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом институте.
John Allen Paulos is an American professor of mathematics at Temple University in Philadelphia, Pennsylvania.
Henry Stuart Hazlitt was an American journalist who wrote about business and economics for such publications as The Wall Street Journal, The Nation, The American Mercury, Newsweek, and The New York Times.
Friedemann Schulz von Thun is a German psychologist and expert in interpersonal communication and intrapersonal communication.
Дуглас Ричард Хофштадтер — американский физик и информатик; сын лауреата Нобелевской премии по физике Роберта Хофштадтера.
Auguste Penjon war ein französischer Philosophiehistoriker.

Мелани Кляйн — влиятельный британский психоаналитик еврейского происхождения, стоявшая у истоков детского психоанализа, игровой психоаналитической терапии и теории объектных отношений.
Niall Shanks was an English philosopher and critic of intelligent design.

Maryse Choisy was a French philosophical writer.

David F. Levine is an American author, a professor of physical therapy, and a biomedical scientist.

Rose Laub Coser was a German-American sociologist, educator, and social justice activist.

Гонконг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира.
Демократия — политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.
Оксана Викторовна Тимофеева — русский философ, автор работ по философии животных и эротической философии Жоржа Батая.
Oxana Timofeeva. What Lenin Teaches Us About Witchcraft?
In the 1990s, right after the collapse of the USSR, the Russian tabloid press burst into a huge series of exposés on leaders of the state socialist past.
Ramones — американская панк-рок-группа, одни из самых первых исполнителей панк-рока, оказавших влияние как в целом на этот жанр, так и на многие другие течения альтернативного рока.
Жёлтая пресса — обозначение изданий печатной прессы, распространяемых по достаточно низкой цене и специализирующихся на слухах, сенсациях, скандалах, сплетнях о жизни известных людей.
Владимир Ильич Ленин — российский революционер, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии, главный организатор и руководитель Октябрьской социалистической революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.
Чернильница — сосуд, в который во время письма периодически окунают незаправляемую перьевую ручку для набора порции чернил.
Святая инквизиция — общее название ряда учреждений Католической церкви, предназначенных для борьбы с ересью.
Магия — это предполагаемое искусство манипулирования реальностью с помощью специальных предметов, заклинаний и ритуалов, основанных на тайных знаниях и силах, сверхъестественным путём.
Колдовство — занятие магией как ремеслом, при котором колдун заявляет о контакте со сверхъестественными силами.
Пролетариат — социальный класс, для которого работа по найму является по существу единственным источником средств к существованию.
Ведьма — женщина, практикующая магию, а также обладающая магическими способностями и знаниями.
Геноцид — форма коллективного насилия, действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу как таковую путём:
✓ убийства членов этой группы;
✓ причинения тяжкого вреда их здоровью;
✓ мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе;
✓ изъятия детей из семьи;
✓ предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.
Капитализм — экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства.
Сильвия Федеричи — американская учёная, преподавательница и активистка, представляющая радикальные автономистскую и феминистическую марксистскую традицию.
Obeah is a system of spiritual and healing practices developed among enslaved West Africans in the West Indies.
Ересь — сознательное отклонение от считающегося кем-либо верным религиозного учения, предлагающее иной подход к религиозному учению.
Знахарство — известные с древности у народов всех стран примитивные способы лечения, которые традиционно сопровождаются различными обрядами.
Вуду — традиционная африканская религия, имеющая статус государственной на территории некоторых стран, расположенных в Западной Африке.
Государство — политическая форма организации общества на определённой территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны.
Феодализм — система правоотношений в обществе, образовавшаяся в конце VI века, свойственная некоторым государственно организованным добуржуазным обществам.
Рабочая сила — способность человека к труду, совокупность физических и духовных способностей, которые человек использует в своей деятельности.
Язычество — принятый в христианском богословии и в исторической литературе термин, обозначающий традиционные и нехристианские религии.
Яблоко | Язычество | Яички | Яичный белок | Яичный желток | Яйцеклетка | Яйцо | Ялта | Ямб | Япония | Ясли |
Век разума — последний из знаменитых трактатов Томаса Пейна, в котором содержится весьма смелая для своего времени критика Библии, богословия и организованной религии.
Поль Лафарг — французский экономист и политический деятель, один из крупных марксистских теоретиков.
Квир — собирательный термин, используемый для обозначения сексуальных и гендерных меньшинств, не соответствующих гетеросексуальной или цисгендерной идентичности.
Космогония — наука, изучающая происхождение и развитие космических тел и их систем: звёзд и звёздных скоплений, галактик, туманностей.
Technocapitalism or tech-capitalism refers to changes in capitalism associated with the emergence of new technology sectors, the power of corporations, and new forms of organization.

Эмансипация — отказ от различного рода социальных зависимостей, в том числе детей от родителей, женщин от мужчин, мужчин от женщин, прекращение действия ограничений, приобретение адекватных прав и обязанностей.

Парадигма — совокупность фундаментальных научных установок, представлений и терминов, принимаемая и разделяемая научным сообществом и объединяющая большинство его членов.

Новый Арбат — улица в Центральном административном округе города Москвы на территории района Арбат.
Антихрист — драматический фильм режиссёра Ларса фон Триера, снятый им по собственному сценарию.
Жиль Делёз — французский философ, представитель континентальной философии, иногда относимый к постструктурализму.
Пьер-Феликс Гваттари — французский психоаналитик, философ и политический активист, один из основоположников антипсихиатрии, написавший совместно с философом Жилем Делёзом знаменитый трактат Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения.
Жизнь — основное понятие биологии — активная форма существования материи, в некотором смысле высшая по сравнению с её физической и химической формами существования; совокупность физических и химических процессов, протекающих в клетке, позволяющих осуществлять обмен веществ и её деление.
Смерть — прекращение, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.
Птицы — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.
Растения — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, включающая в себя в том числе мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
Алистер Кроули — английский поэт, был известен как чёрный маг и сатанист XIX—XX века, один из видных идеологов оккультизма и сатанизма.
Другой — одна из центральных философских и социо-культурных категорий, определяющая другого как не-Я.
Диалектическое противоречие — философское понятие, применяемое в диалектике Гегеля, Канта и диалектическом материализме.
Рубль — название современных валют России, Белоруссии, а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика.
Свитер — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами и характерным высоким двух- или трёхслойным воротником, облегающим шею.
Революция — радикальное, коренное, глубокое, качественное изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием.
Антонен Арто — французский писатель, поэт, драматург, актёр театра и кино, художник, киносценарист, режиссёр и теоретик театра, новатор театрального языка, посвятивший жизнь и творчество вопросу о новом обосновании искусства, его места в мире и права на существование.
Большевизм — революционное марксистское течение политической мысли и политический режим, связанный с формированием жёстко централизованной, сплочённой и дисциплинированной партии социальной революции, ориентированной на свержение существующего капиталистического государственного строя, захват власти и установление диктатуры пролетариата.
Аффект — эмоциональный процесс взрывного характера, характеризующийся кратковременностью и высокой интенсивностью, сопровождающийся резко выраженными двигательными проявлениями и изменениями в работе внутренних органов.
Идентичность — эмоциональный процесс взрывного характера, характеризующийся кратковременностью и высокой интенсивностью, сопровождающийся резко выраженными двигательными проявлениями и изменениями в работе внутренних органов.
Луи Пьер Альтюссер — французский философ-неомарксист, один из самых влиятельных представителей западного марксизма, создатель структуралистского марксизма, член Французской коммунистической партии, профессор Высшей нормальной школы.
Интерпелляция — эмоциональный процесс взрывного характера, характеризующийся кратковременностью и высокой интенсивностью, сопровождающийся резко выраженными двигательными проявлениями и изменениями в работе внутренних органов.
Идентитаризм — европейское, североамериканское, австралийское и новозеландское белонационалистическое движение, основанное во Франции.
Вирус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток.
Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.
Гуманизм — система построения человеческого общества, где высшей ценностью является жизнь человека, все материальные и нематериальные ресурсы направлены на то, чтобы сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной.
Легион — основная организационная единица в армии Древнего Рима времен поздней республики и империи.
Анонимизация — процесс удаления данных с целью сокрытия источника информации, действующего лица и т. д.
Тейлор | Тимофеева | Транковский | Тубольцев |
10 изобретений, сделанных по ошибке | 10 малоизвестных мифов о сотворении мира | 13-летний школьник рассчитал вероятность армагеддона |
Крепостное право — совокупность юридических норм, закрепляющих запрет крестьянам уходить со своих земельных наделов без разрешения властей, наследственное подчинение административной и судебной власти определённого феодала, лишение крестьян права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость, иногда — возможность для феодала отчуждать крестьян без земли.
Эстетика — философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особой форме общественного сознания.
Удовольствие — положительно окрашенная эмоция, сопровождающая удовлетворение одной или нескольких потребностей.
Улыбнитесь! 11 причин чаще смеяться | Ученые назвали причины существования Бога!!! | Ученые назвали самые счастливые женские имена |
Косово — частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове, в географическом регионе Косово.
Эволюция — процесс не онтогенетического развития, одноуровневой качественной трансформации и/или деградации, процесс структурного изменения чего-то от одного состояния к другому.
Половой отбор — процесс, в основе которого лежит конкуренция за полового партнёра между особями одного пола, что влечёт за собой выборочное спаривание и производство потомства.
Агрессия — поведение животных, выражающееся в нападении или угрозе нападения на особей своего вида, связанное с эмоциями страха или ярости, при защите своей территории, добычи, полового партнера, установления иерархии подчинения в стае и т.п.
Морфология изучает как внешнее строение организма, таксона или его составных частей, так и внутреннее строение живого организма.
Когнитивистика — междисциплинарное научное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику, невербальную коммуникацию и теорию искусственного интеллекта.
Интеллект — качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.
Поколение — общность каких-то объектов по длине цепи непосредственных предков до некоторого родоначальника; или же по времени рождения.
Популяция — совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории и частично или полностью изолированных от особей других таких же групп.
Естественный отбор — основной эволюционный процесс, в результате действия которого в популяции увеличивается число особей, обладающих максимальной приспособленностью, в то время, как количество особей с неблагоприятными признаками уменьшается.
Право первой ночи — предположительно существовавшее в Средние века и в 18 веке в России и в европейских странах — право землевладельцев и феодалов после заключения брака зависимых крестьян провести первую ночь с невестой, лишая её девственности.
Чувство юмора — психологическая особенность человека, заключающаяся в подмечании противоречий в окружающем мире и оценке их с комической точки зрения.
Красноречие — умение говорить красиво, убедительно, умение заинтересовать человека своей речью, ораторские способности.
Музыкальность — музыкальная одарённость, абсолютный слух, комплекс природных задатков, обеспечивающих возможность воспитания в человеке музыкального вкуса, способности полноценного восприятия музыки, подготовки из него музыканта-профессионала.
Изобретательность — область технической деятельности, включающая в себя целый ряд специализированных областей и дисциплин, направленная на практическое приложение и применение научных, экономических, социальных и практических знаний с целью обращения природных ресурсов на пользу человека.
Размножение человека происходит в результате внутреннего оплодотворения, завершающего половой акт.
Яйцеклетка — женская гамета людей, животных, высших растений, а также многих водорослей и других протистов, которым свойственна оогамия.
Павлины — род крупных птиц из подсемейства фазановых, семейства фазановых, отряда курообразных.
Дуэль — строго регламентированный так называемым дуэльным кодексом вооружённый поединок, цель которого — удовлетворить желание одного из дуэлянтов ответить на нанесённое его чести оскорбление с соблюдением заранее условленных и равных условий боя.
William F. Fry war ein US-amerikanischer Psychiater, Begründer der Gelotologie und Pionier im Fachgebiet Therapeutischer Humor.
Чучело — художественный фильм Ролана Быкова о шестикласснице, сумевшей выстоять в столкновении с подлостью и предательством.
Генерал — персональное воинское звание в вооружённых силах Российской Империи, англоязычных и многих других стран.
Маршальский жезл — символический знак различия генерал-фельдмаршалов, фельдмаршалов и маршалов, представляет собой цилиндрический стержень длиной около 30 — 40 сантиметров, обычно покрытый вышитым полотном, богато украшенный металлом, инкрустацией, иногда драгоценными камнями.
Офицер — должностное лицо силовых структур: вооружённых сил, в некоторых государствах полиции.
Воинское звание — звание военнослужащего или военнообязанного в запасе, которое определяет положение военнослужащих по отношению к другим военнослужащим, персонально присваиваются каждому гражданину, проходящему военную службу в вооружённых силах в соответствии с его служебным положением, военной или специальной подготовкой, принадлежностью к виду ВС, роду войск вида ВС или виду службы, а также по персональным государственным заслугам.
Домино — настольная игра, в процессе которой выстраивается цепь костяшек, соприкасающихся половинками с одинаковым количеством точек, обозначающим число очков.
Госпиталь — медицинское учреждение вооружённых сил и других силовых ведомств многих государств, предназначенное для оказания медицинской помощи военнослужащим.
Госпиталь — человек или другое живое существо, получающий медицинскую помощь, подвергающийся медицинскому наблюдению и/или лечению по поводу какого-либо заболевания, патологического состояния или иного нарушения здоровья и жизнедеятельности, а также пользующийся медицинскими услугами независимо от наличия у него заболевания.
Николай Васильевич Гоголь — русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из классиков русской литературы.
Полковник — должность, чин, войсковое воинское звание старшего офицерского или командного состава в вооружённых силах и других силовых ведомствах большинства стран мира.
Прапорщик — воинское звание, категория в вооружённых силах и других силовых структурах некоторых государств.
Каста — общее название социальных групп, на которые исторически разделялось индийское общество.
Президент — выборный глава государства в странах с республиканской или смешанной формой правления; избирается на установленный срок.
Сарказм — один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.
Вокруг смеха — популярная развлекательная программа советского и российского телевидения.
Пародия — произведение искусства, имеющее целью создание у читателя комического эффекта за счёт намеренного повторения уникальных черт уже известного произведения, в специально изменённой форме.
Александр Александрович Иванов — советский и российский педагог, поэт-пародист, бессменный ведущий телепередачи Вокруг смеха.
Роберт Иванович Рождественский — советский и российский поэт и переводчик, автор песен.
Генри Форд — американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, автор 161 патента США.
Литературная газета — советское и российское еженедельное литературное и общественно-политическое издание.
Евгений Сазонов — вымышленный писатель, прозаик, литератор, эссенизатор, душелюб и людовед, который впервые появился в Литературной газете 4 января 1967, когда там стали публиковаться отрывки из его романа века под названием Бурный поток.
Мариэтта Сергеевна Шагинян — советская писательница армянского происхождения, поэтесса и прозаик, искусствовед, журналист, историограф.
Эпиграмма — небольшое сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-либо лицо или общественное явление.
Антитеза — риторическое противопоставление, стилистическая фигура контраста в художественной или ораторской речи, заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом.
Стыд — отрицательно окрашенное чувство, объектом которого является какой-либо поступок или качество субъекта.
Филология — совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве.
Военно-полевой роман — советская мелодрама режиссёра и сценариста Петра Тодоровского, основные события которой происходят в послевоенные годы.
Желание — средняя степень воли, между простым органическим хотением, с одной стороны, и обдуманным решением или выбором — с другой.
Плач — одна из психофизиологических реакций человека, для которой характерно чрезвычайно повышенное выделение из его глаз особой секреции — слёз; плач сопровождается резким повышением кровяного давления и дыхания, непроизвольными сокращениями окологлазных и надбровных мышц лица, а также напряжением мышц шейно-плечевого отдела.
Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.
Макс фон Лауэ — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1914 за открытие дифракции рентгеновских лучей на кристаллах.
Уравнения Максвелла — система уравнений в дифференциальной или интегральной форме, описывающих электромагнитное поле и его связь с электрическими зарядами и токами в вакууме и сплошных средах.
Муж — мужчина вообще, женатый мужчина, свободный мужчина, взрослый, полноправный человек, деятель на каком-нибудь общественном поприще.
Лейб-медик — придворные звания и должности медицинского толка: различают лейб-хирургов, лейб-акушеров, лейб-отиатров, лейб-педиатров, лейб-окулистов и других.
Пруссия — историческое государство в Восточной и Центральной Европе, достигшее своих наибольших размеров в XIX — XX веках.
Фридрих III — германский император и король Пруссии с 9 марта 1888 года, прусский генерал-фельдмаршал, русский генерал-фельдмаршал.
Томас Сиденхем — знаменитый английский врач, отец английской медицины, английский Гиппократ — реформатор практической медицины в духе Нового времени, называемый также отцом клинической медицины.
Гениальность — высший уровень интеллектуального или творческого функционирования личности, который реально проявляется в выдающихся научных открытиях или философских концепциях, технических или технологических изобретениях, социальных преобразованиях, создании художественных произведений, имеющих отдалённые последствия во многих областях культуры.
Механика — раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними; при этом движением в механике называют изменение во времени взаимного положения тел или их частей в пространстве.
Магнитное поле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.
The Act of Creation |
The Church and Empire |
Laughter: A Scientific Investigation | Lenin Rediscovered. What Is to Be Done? in Context | Lenin, Religion, and Theology | Linguistic Theories of Humor |
Technic and Magic. The Reconstruction of Reality | Technic and Magic. The Reconstruction of Reality | Technocapitalism | A Theory of Humor | Toward an Empirical Verification of the General Theory of Verbal Humor |
Калибан и ведьма | Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато | Курьезы и юмор с физико-математическим уклоном |
О выражении эмоций у человека и животных | О комическом | О чувстве юмора и остроумии | Обширный наукометрический отчет | Оратор |
Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса | Театр и его Двойник | Теоретические основы проектирования компиляторов | Теория предельной корректности | Труды Чайного Клуба. Полное собрание сочинений: 25 лет в одной книге |
Михаил Михайлович Жванецкий — русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр.
Амплитуда — максимальное значение смещения или изменения переменной величины от среднего значения при колебательном или волновом движении.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков-дендритов.
Пальцы — части тела четвероногих позвоночных, расположенные на концах конечностей и служащие, в основном, для осязания и манипуляции.
Рука — верхняя конечность человека, опорно двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.
Структурная лингвистика — языковедческая дисциплина, предметом которой является язык, изучаемый с точки зрения своего формального строения и организации его в целом, а также с точки зрения формального строения образующих его компонентов как в плане выражения, так и в плане содержания.
Теория — учение, система научного знания, описывающая и объясняющая некоторую совокупность явлений и сводящая открытые в данной области закономерные связи к единому объединяющему началу.
Кинематическая цепь — это связанная система объектов, образующих между собой кинематические пары.
Теория принятия решений — область исследования, вовлекающая понятия и методы математики, статистики, экономики, менеджмента и психологии с целью изучения закономерностей выбора людьми путей решения проблем и задач, а также способов достижения желаемого результата.
Социальная кибернетика — независимый раздел в социологии, основанный на общей теории систем и кибернетике.
Имя прилагательное — самостоятельная часть речи, обозначающая непроцессуальный признак предмета и отвечающая на вопросы какой? какая? какое? какие? чей? и так далее.
Теория очередей — раздел теории вероятностей, целью исследований которого является рациональный выбор структуры системы обслуживания и процесса обслуживания на основе изучения потоков требований на обслуживание, поступающих в систему и выходящих из неё, длительности ожидания и длины очередей.
Сумерки — интервал времени, в течение которого Солнце находится под горизонтом, а естественная освещённость на Земле обеспечивается отражением солнечного света от верхних слоёв атмосферы и остаточным люминесцентным свечением самой атмосферы, вызываемым ионизирующими излучениями Солнца.
Эмоция — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.
Сера — элемент 16 группы, третьего периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 16.
Белки — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
Пена — дисперсная система с газовой дисперсной фазой и жидкой или твёрдой дисперсионной средой.
Электрофорез — это электрокинетическое явление перемещения частиц дисперсной фазы в жидкой или газообразной среде под действием внешнего электрического поля.
Ставролит — минерал из класса силикатов, островной силикат алюминия и железа с дополнительными анионами.
Буря — собирательное понятие, обозначающее очень сильный ветер, возникающий по различным причинам и в разных областях Земли.
Суббуря — комплекс возмущений в северной и южной полярных областях Земли, связанных с взаимодействием возмущенных потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли.
Магнитосфера — область пространства вокруг небесного тела, в которой поведение окружающей тело плазмы определяется магнитным полем этого тела.
Динамическая система — множество элементов, для которого задана функциональная зависимость между временем и положением в фазовом пространстве каждого элемента системы.
Роторный траншейный экскаватор
Роторный траншейный экскаватор — траншейный экскаватор с роторным рабочим органом.
Зубчатая передача — это механизм или часть механизма механической передачи, в состав которого входят зубчатые колёса.
Общая теория систем — научная и методологическая концепция исследования объектов, представляющих собой системы.
Архитектура системы — принципиальная организация системы, воплощенная в её элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а также принципы, направляющие её проектирование и эволюцию.
Управление — процесс прогнозирования, планирования, организации, мотивации, координации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации.
Феноменологическая теория — формулировка закономерностей, определяющих взаимосвязь между различными наблюдениями явлений в соответствии с фундаментальной теорией, но непосредственно из этой теории не следующих.
Термометрия — раздел прикладной физики и метрологии, посвящённый разработке методов и средств измерения температуры.
Экспертный опрос — разновидность опроса, в ходе которого респондентами являются эксперты — высококвалифицированные специалисты в определенной области деятельности.
Математическая модель — математическое представление реальности, один из вариантов модели как системы, исследование которой позволяет получать информацию о некоторой другой системе.
Градус Реомюра — единица измерения температуры, в которой температуры замерзания и кипения воды приняты за 0 и 80 градусов, соответственно.
База данных — представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины.
Корреляционный анализ — метод обработки статистических данных, с помощью которого измеряется теснота связи между двумя или более переменными.
Гипертермия — перегревание, накопление избыточного тепла в организме человека и животных с повышением температуры тела, вызванное внешними факторами, затрудняющими теплоотдачу во внешнюю среду или увеличивающими поступление тепла извне.
Субъективность — это выражение представлений человека об окружающем мире, его точки зрения, чувства, убеждения и желания.
Производительность труда — это первично количественный показатель, характеризующий результативность труда.
Труд — целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и общества.

Экономист — должность, специальность, специалист в экономике или её разделах, эксперт по экономическим вопросам промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и так далее.
Научный сотрудник — общее наименование ряда должностей учёных, занятых научной деятельностью в НИИ, на предприятиях или в вузах, но не являющихся руководителями структурных подразделений, а также одна из конкретных должностей таких учёных в Российской Федерации.
Наряд-заказ — одна из форм документа, имеющего значение договора на выполнение работ или оказание услуг.
Химическая технология — наука о наиболее экономичных и экологически обоснованных методах химической переработки сырых природных материалов в предметы потребления и средства производства.
Энциклопедия — приведённое в систему обозрение всех отраслей человеческого знания или круга дисциплин, в совокупности составляющих отдельную отрасль знания.
Справочник — издание практического назначения, с кратким изложением сведений в систематической форме, в расчёте на выборочное чтение, на то, чтобы можно было быстро и легко навести по нему справку.
Экономический эффект — разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными для их получения затратами на изменения условий деятельности.
Кримінальний кодекс — систематизований законодавчий акт, що врегульовує питання виключного переліку діянь, які є кримінальними правопорушеннями, встановлює підстави кримінальної відповідальності та передбачає види покарань та/або заходів безпеки до осіб, котрі вчинили заборонену дію чи бездіяльність.
Экстраполяция — особый тип аппроксимации, при котором функция аппроксимируется вне заданного интервала, а не между заданными значениями.
Калькулирование — способ определения себестоимости продукции или услуги, а также себестоимости производственных ресурсов.
Себестоимость — денежная оценка используемых в производстве продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на её производство и сбыт.
Монография — научный труд в виде книги с углублённым изучением одной темы или нескольких тесно связанных между собой тем.
Закон спроса и предложения — объективный экономический закон, объединяющий в себе закон спроса и закон предложения.
Теория предельной полезности — концепция в экономической теории, возникшая в последней трети XIX века.
Стоимость в экономической теории — основа количественных соотношений при добровольном обмене товарами между собственниками.
Растениеводство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием культурных растений.
Сельское хозяйство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.
Животноводство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов.
Метод Дельфи был разработан в 1950 — 1960 в США для прогнозирования влияния будущих научных разработок на методы ведения войны.
Коневодство — отрасль животноводства государства, занимающаяся разведением и использованием лошадей.
Аукцион — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.
Жилищно-коммунальные услуги — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.
Овес — род однолетних травянистых растений из семейства Злаки, или Мятликовые, включающий широко известный вид — овёс посевной, возделываемый в промышленных масштабах как пищевое и кормовое растение.
Квартира — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат с отдельным наружным выходом, составляющее отдельную часть дома.
Общественное питание — отрасль народного хозяйства, совокупность предприятий, занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции.
Андрей Вадимович Макаревич — советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный бессменный участник рок-группы Машина времени.
Полиграфия — отрасль промышленности, занимающаяся изготовлением печатной, а именно книжно-журнальной, деловой, газетной, этикеточной и упаковочной продукции.
Книга — один из видов печатной продукции: непериодическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая информация, имеющее, как правило, твёрдый переплёт.
Мебель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
Фармацевтика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими проблемами процесса изготовления лекарственных средств и субстанций.
Стул — мебель, предназначенная для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем с подлокотниками или без них.
Басня — жанр дидактической литературы: короткий рассказ в стихах или прозе с прямо сформулированным моральным выводом, придающим рассказу аллегорический смысл.
Дверь — проём в стене для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо, а также створ или несколько створов, закрывающие этот проём.
Феликс Давидович Кривин — русский прозаик, поэт и сценарист, писатель-фантаст, радиожурналист, педагог.
Канцелярские товары — это изделия и принадлежности, используемые для переписки и оформления бумажной документации, учебы, творчества.
Самоокупаемость — принцип ведения хозяйственной деятельности, предполагающий полное возмещение всех затрат на производство товаров, работ и услуг выручкой от их реализации.
Хозрасчет — метод расчёта расходов и доходов на предприятии в условиях плановой экономики, предполагавший равномерное распределение части прибыли в пользу общественности — работников предприятия.
Буфет — предприятие общественного питания, расположенное в жилых или общественных зданиях, реализующее ограниченный ассортимент продукции из полуфабрикатов высокой степени готовности, холодные блюда, закуски, горячие, сладкие блюда несложного изготовления, мучные кулинарные, булочные и кондитерские изделия, а также покупные товары с возможностью съесть их непосредственно в месте приобретения.
Затраты — размер ресурсов, использованных в процессе хозяйственной деятельности за определённый временной промежуток.
Нормативная прибыль — экономическая характеристика, которая является процентным отношением прибыли за некоторый промежуток времени к авансированному перед началом этого периода капиталу.
Заработная плата — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.
Амортизация — процесс переноса по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на себестоимость производимой продукции.
Основные средства — это средства труда, участвующие в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму.
Накладные расходы — затраты, которые, в отличие от прямых затрат, не могут быть напрямую отнесены на себестоимость изготовления продукции предприятием или организацией.
Социальное страхование — это система социальной защиты, задача которой — обеспечивать реализацию конституционного права экономически активных граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы.
Народные промыслы — изготовление изделий из простых подручных материалов при помощи несложных инструментов.
Мода — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Масса — скалярная физическая величина, определяющая инерционные и гравитационные свойства тел в ситуациях, когда их скорость намного меньше скорости света.
Энергия — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.
Эмпиризм — направление в теории познания, признающее чувственные ощущения источником знания и предполагающее, что содержание знания может быть либо представлено как описание этого ощущения, либо сведено к нему.
Закон — вербальное и/или математически выраженное утверждение, имеющее доказательство, которое описывает соотношения, связи между различными научными понятиями, предложенное в качестве объяснения фактов и признанное на данном этапе научным сообществом согласующимся с ними.
Научное исследование — процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанной с получением научных знаний.
Промышленность — совокупность предприятий, занятых производством орудий труда и потребительских товаров: добычей сырья, топлива, производством энергии, обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве.
Функциональный анализ — раздел анализа, в котором изучаются бесконечномерные топологические векторные пространства и их отображения.
Хобот или хоботок — непарный вырост на переднем конце тела животного, обычно обладающий подвижностью.
Эквиваленция — это логическое выражение, которое является истинным тогда, когда оба простых логических выражения имеют одинаковую истинность.
Крылья насекомых — придатки экзоскелета насекомых, которые используются ими для полёта.
Термодинамика — раздел физики, изучающий наиболее общие свойства макроскопических систем и способы передачи и превращения энергии в таких системах.
Кинетика — раздел физической химии, изучающий закономерности протекания химических реакций во времени, зависимости этих закономерностей от внешних условий, а также механизмы химических превращений.
Гармония в философии — согласование разнородных и даже противоположных элементов, в эстетике — слаженность целого, рождающаяся от сочетания противоположных по качеству сущностей.
Алгебра — раздел математики, который можно нестрого охарактеризовать как обобщение и расширение арифметики; в этом разделе числа и другие математические объекты обозначаются буквами и другими символами, что позволяет записывать и исследовать их свойства в самом общем виде.
Равновесие — состояние системы, описываемой в естественных и гуманитарных науках: система считается находящейся в состоянии равновесия, если одни воздействия на неё компенсируются другими или отсутствуют вообще.
Симметрия — соответствие, неизменность, проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях.
Десмонд Моррис — британский зоолог и этолог, а также художник-сюрреалист, телеведущий и популяризатор науки.
Изобразительное искусство — раздел пластических искусств, вид художественного творчества.
Геометрическая пропорция, равенство отношений двух [и более] пар чисел
и
т. е. равенство вида
Черный квадрат — работа Казимира Малевича, созданная в 1915, одна из самых обсуждаемых и самых известных картин в мировом искусстве.
Пейзаж — жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа.
Слово — одна из основных структурных единиц языка, которая служит для именования предметов, их качеств и характеристик, их взаимодействий, а также именования мнимых и отвлечённых понятий, создаваемых человеческим воображением.

Глагол — самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние или действие предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?

Предлог — служебная часть речи, обозначающая отношение между объектом и субъектом, выражающая синтаксическую зависимость имен существительных, местоимений, числительных от других слов в словосочетаниях и предложениях.

Дзюдо — японское боевое искусство, философия и спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано, который также сформулировал основные правила и принципы тренировок и проведения состязаний.
Борьба — единоборство, рукопашная схватка двух людей, в которой каждый старается осилить другого, свалив его с ног.
Киевское Суворовское военное училище
Киевское Суворовское военное училище — военное образовательное учреждение, располагавшееся в городе Киев с 1943 по 1992.
Бравый солдат Швейк — сатирический персонаж, придуманный чешским писателем Ярославом Гашеком; главный герой неоконченного романа Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны, написанного в 1921 — 1923, цикла из 5 рассказов Бравый солдат Швейк. Увлекательные приключения честного служаки и повести Бравый солдат Швейк в плену.
Армия — сухопутные войска как часть вооружённых сил государства; соединение значительной массы вооружённых сил на одном театре войны, чаще всего под началом одного лица, для достижения определённой цели.
Австро-Венгерская империя — двуединая монархия и многонациональное государство в Центральной Европе, существовавшее в 1867 — 1918.
The Rolls-Royce Phantom VIII is a full-sized luxury saloon manufactured by Rolls-Royce Motor Cars.
Августовский путч — события 18 — 21 августа 1991 в Советском Союзе, получившие оценку со стороны официальных лиц и органов государственной власти в СССР как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти.
Борис Карлович Пуго советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК КП Латвии, председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС/ЦКК КПСС, Министр внутренних дел СССР.
אבנר_זיו היה פרופסור בפקולטה לפסיכולוגיה ובבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, מאבות חקר ההומור בפסיכולוגיה.

Пейсы — длинные неподстриженные пряди волос на висках, традиционный элемент причёски ортодоксальных и ультраортодоксальных евреев.
Корова — самка домашнего быка, одомашненного подвида дикого быка, парнокопытного жвачного животного подсемейства Быки; шире — самка любых видов крупного рогатого скота.
Галиция — историческая область в Восточной Европе, примерно соответствует территории современных Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской областей Украины и югу Подкарпатского воеводства Польши.
Евреи — народ семитского происхождения, восходящий к населению древнего Израильского и Иудейского царств, живущий во многих странах мира.

Писарь — человек, который профессионально занимается переписыванием книг и документов от руки.
Майор — чин, первое войсковое звание старших офицеров в некоторых вооружённых силах государств мира.
Повар — человек, профессией — специальностью которого является приготовление пищи; а также должность на предприятиях питания, например, старший повар, повар-кондитер и так далее.
Полевая кухня — специальное транспортное средство либо прицеп, предназначенный для приготовления пищи и организации горячего питания личного состава формирований, в полевых условиях, на удаленных объектах, в подразделениях и воинских частях, где отсутствуют стационарные объекты для приготовления пищи.
Курсант — гражданин, состоящий на военной службе, принятый в военное учебное заведение или учащийся в учебном формировании.
Подполковник — чин и воинское звание старшего офицерского состава между майором и полковником в вооружённых силах многих государств мира.
Величество — калька лат. majestas — почётное обращение к монархам, при обращении — обычно с предшествующим местоимением Ваше, а при упоминании в текстах — с местоимением его, её.
Сержант — чин, воинское звание солдата младшего командного состава вооружённых сил многих государств мира.
Антисемитизм — одна из форм национальной нетерпимости, которая выражается во враждебном отношении к евреям как к этнической или религиозной группе.
Программа Время — информационная телевизионная программа российского Первого канала, ранее — Центрального телевидения Гостелерадио СССР, Всесоюзной государственной телерадиокомпании, Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании Останкино.
Дмитрий Сергеевич Лихачев — советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, доктор филологических наук, профессор.
Авария на Чернобыльской АЭС — разрушение 26 апреля 1986 реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной близ города Припять.
Атомная электростанция — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками.
Первомай — отмечается во многих странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая.
Алкоголь — в русском языке чаще всего выступает как синоним словосочетаний этиловый спирт и алкогольные напитки.
Радиация — потоки фотонов, элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.
Запорожец — марка советских и украинских заднемоторных легковых автомобилей особо малого класса, выпускавшихся заводом Коммунар в городе Запорожье.
Лаборатория — оборудованное помещение, приспособленное для специальных опытов и исследований; обыкновенно при высших учебных заведениях, заводах, аптеках и пр.
Кабинет — рабочая комната, предназначенная для письменных занятий, интеллектуальной работы и другого.
Умозаключение — шаг логического вывода, непосредственное выведение высказывания-заключения из одного или более высказываний, простейшее рассуждение.
Каламбур — литературный приём с использованием в одном контексте разных значений одного слова или разных слов, или словосочетаний, сходных по звучанию.
Аллегория — художественное представление идей посредством конкретного художественного образа или диалога.
Противоположные суждения — так называются два суждения, имеющие одно и то же подлежащее и сказуемое, но различающиеся между собой по количеству или качеству.
Сравнение — процесс количественного или качественного сопоставления разных свойств двух объектов, выяснение, какой из двух объектов лучше в целом, утверждение, что данные объекты равны или подобны, приравнивание, уподобление.
Ожидание — событие, которое рассматривается как наиболее вероятное в ситуации неопределённости; также более или менее реалистичное предположение относительно будущего события.
Метафора — слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит сравнение неназванного предмета или явления с каким-либо другим на основании их общего признака.
Небылица — жанр устного народного творчества, прозаическое или стихотворное повествование небольшого объёма, как правило, комического содержания, в основе сюжета которого лежит изображение нарочито искажённой действительности.
Пословица — изречение в виде грамматически законченного предложения, в котором выражена народная мудрость в поучительной форме.
Неожиданность — в традиционном смысле: внезапное, непредвиденное событие, обстоятельство или явление.
Имя собственное — имя существительное, обозначающее слово или словосочетание, предназначенное для именования конкретного, вполне определённого предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление из ряда однотипных предметов или явлений.
Риторика — филологическая дисциплина, изучающая искусство речи, правила построения художественной речи, ораторское искусство, мировоззрение, красноречие.
Парадокс — в широком смысле высказывание, мнение, рассуждение, которое расходится с общепринятым мнением и кажется нелогичным, или противоречащим здравому смыслу.
Гротеск — вид художественной о́бразности, комически или трагикомически обобщающий и заостряющий жизненные отношения посредством причудливого и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры, гиперболы и алогизма.
Ассоциация — в психологии и философии — закономерно возникающая связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отражёнными в сознании индивида и закреплёнными в его памяти.
Умолчание — намеренный обрыв высказывания, передающий взволнованность речи и предполагающий, что читатель догадается о невысказанном.
Сатира — резкое проявление комического в искусстве, представляющее собой поэтическое унизительное обличение явлений при помощи различных комических средств: сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии и других.
Как закалялась сталь — частично автобиографический роман советского писателя Николая Островского, написанный в период 1930 до 1934.
Павел Андреевич Корчагин — главный герой романа Николая Островского Как закалялась сталь и снятых по этому произведению фильмов.
География — комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов.
Иоанн Креститель — согласно Евангелиям: ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии, жил в пустыне аскетом, проповедовал и совершал священные омовения/окунания для очищения от грехов и покаяния иудеев, которые впоследствии стали называться таинством крещения, омывал в водах реки Иордан Иисуса Христа, окунув его в воду.
Животворящий Крест — крест, на котором, согласно христианскому вероучению, был распят Иисус Христос.
Древнегреческая мифология — мифология древних греков, тесно переплетающаяся с их религией.
Леда и лебедь — художественный сюжет, изображающий Леду в процессе совокупления с принявшим форму лебедя Зевсом или обнимающей лебедя в присутствии их общих детей.
Гермес — в древнегреческой мифологии бог торговли, прибыли, хитрости, разумности, ловкости и красноречия, дающий богатство и доход в торговле.
Пророк — в общем смысле, человек, заявляющий о том, что контактирует со сверхъестественными или божественными силами и служит посредником между ними и человечеством; провозвестник сверхъестественной воли.
Божественный Отец — в православной церкви более расширенно отцами называют всех священнослужителей, являющих собою образ и подобие Иисуса Христа, почти всегда монашествующих мужчин, а иногда из уважения, мужчин также, сотрудников храма, заслуженных богословов и других церковных деятелей.
Храм — культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.
Оракул — наиболее распространённая в античности форма прорицания, состоявшая в том, что предсказание от имени божества по запросу верующих оглашал специальный жрец, который и именовался оракулом.
Исаия — один из библейских пророков, выходец из знатной еврейской священнической семьи, родился в Иерусалиме около 765 ВС.
Солнечное затмение — астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна закрывает полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле.
Облака — взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара, видимые на небе невооруженным глазом и с поверхности Земли, и из космического пространства.
Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.
Лунно-солнечный календарь — календарь, в основе которого лежит периодичность видимых движений Луны и Солнца.
Irinairbis. With Humor About Religious Questions Unanswered
If logical religious questions suddenly appear completely unexpectedly, then there is even no one to ask about this.
Намек: в случае намёка говорящий принципиально хочет до конца сохранить двусмысленность высказывания.
Эвфемизм — нейтральное по смыслу и эмоциональной нагрузке слово или описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений.
Стрельба — придание метательному снаряду кинетической энергии за счёт ускорения, при воздействии импульса силы — за счёт запасённой механической, электрической, химической или иной силы, для поражения той или иной цели.
Социальный статус — социальное положение, занимаемое социальным индивидом или социальной группой в обществе или отдельной социальной подсистеме общества.
Фехтование — система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов./p>

Бокс — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках./p>

Невский проспект — главная улица Санкт-Петербурга, протянувшаяся на 4,5 км от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры.
Виктор Петрович Буренин — русский театральный и литературный критик, публицист, поэт-сатирик, драматург.
Городовой — низший чин полицейской стражи в столичных, губернских и уездных городах Европейской России, равно как в тех безуездных городах, посадах и местечках, которые имеют свою отдельную от уездной, полицию, в Российской империи, с 1862 по 1917.
Большой театр — один из крупнейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.
Майя Михайловна Плисецкая — советская и российская балерина, балетмейстер, хореограф, киноактриса.
Балерина — артистка балетного театра, исполнительница классических танцев, выученная согласно академическим балетным канонам и использующая в танце пальцевую технику.
Лесть — угодливое, обычно неискреннее восхваление кого-либо с целью добиться его благосклонности, подхалимаж.
Осип Эмильевич Мандельштам — русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед.
Анна Андреевна Ахматова — русская поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века.
Сергей Александрович Есенин — русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества — имажинизма.
Василий Иванович Качалов — русский и советский актёр, мастер художественного слова, педагог.
Роман — литературный жанр, чаще прозаический, зародившийся в средние века у романских народов как рассказ на народном языке и ныне превратившийся в самый распространенный вид эпической литературы, изображающий жизнь человека с её волнующими страстями, борьбой, социальными противоречиями и стремлениями к идеалу.
Пишущая машинка — механический, электромеханический или электронно-механический прибор, оснащённый набором клавиш, нажатие которых приводит к печати соответствующих символов на носителе.
Война и мир — роман-эпопея Льва Николаевича Толстого, описывающий русское общество в эпоху войн против Наполеона в 1805 — 1812.
Песочные часы — простейший прибор для отсчёта промежутков времени, состоящий из двух прозрачных сосудов, соединённых узкой горловиной, один из которых частично заполнен песком.
Бесконечность — категория человеческого мышления, используемая для характеристики безграничных, беспредельных, неисчерпаемых предметов и явлений, для которых невозможно указание границ или количественной меры.
Аллюзия — стилистическая фигура, содержащая указание, аналогию или намёк на некий литературный, исторический, мифологический или политический факт, закреплённый в текстовой культуре или в разговорной речи.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона — универсальная энциклопедия на русском языке, изданная в Российской империи акционерным издательским обществом Ф.А. Брокгауз — И.А. Ефрон в 1890 — 1907.
Лев Николаевич Толстой — один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших писателей-романистов мира.
Теорема о бесконечных обезьянах
Теорема о бесконечных обезьянах утверждает, что абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки в течение неограниченно долгого времени, рано или поздно напечатает любой наперёд заданный текст.
Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен — немецкий фрайхерр, ротмистр русской службы и рассказчик, ставший литературным персонажем.
Барон — в средневековой феодальной Западной Европе крупный владетельный дворянин и феодальный сеньор, позднее просто почётный дворянский титул.
Звездные дневники Ийона Тихого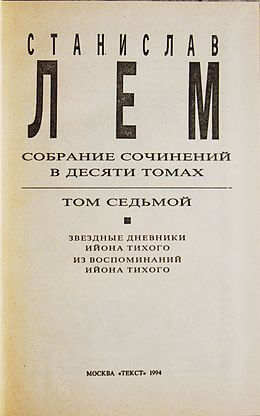
Звездные дневники Ийона Тихого — цикл научно-фантастических рассказов Станислава Лема, посвящённых приключениям вымышленного героя — астронавта и исследователя космоса Ийона Тихого.
Физтех — сокращение от физико-технический либо физико-технологический, разговорное название физико-технических и физико-технологических институтов в странах бывшего СССР или их студентов и сотрудников.
Биофизика изучает особенности действия физических законов на биологическом уровне организации вещества и энергии.
Биофизика изучает особенности действия физических законов на биологическом уровне организации вещества и энергии.
Синергетика — междисциплинарное направление науки, объясняющее образование и самоорганизацию моделей и структур в открытых системах, далеких от термодинамического равновесия.
Теория множеств — раздел математики, в котором изучаются общие свойства множеств — совокупностей элементов произвольной природы, обладающих каким-либо общим свойством.
Функция — отношение между элементами, при котором изменение в одном элементе влечёт изменение в другом.
Множество — одно из ключевых понятий математики; это математический объект, сам являющийся набором, совокупностью, собранием каких-либо объектов, которые называются элементами этого множества и обладают общим для всех их характеристическим свойством.
Доказательство — рассуждение по определённым логическим правилам, обосновывающее истинность какого-либо предположения, утверждения, гипотезы или теории.
Vladimir Dudin. Monkeys and Fiction
They say that if you sit a monkey behind a typewriter …
Дробышевский | Дудин |
Александр Сергеевич Пушкин — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, критик и теоретик литературы, историк, публицист; один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века.
Владимир Иванович Даль — русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный врач.
Толковый словарь живого великорусского языка
Толковый словарь живого великорусского языка — словарь с объяснением значений слов, использовавшихся в устной и письменной речи XIX века.
Юрий Николаевич Тынянов — русский советский прозаик, поэт, драматург, сценарист, переводчик, литературовед и критик, представитель русского формализма.
Авгур — член почётной римской жреческой коллегии, выполнявший официальные государственные гадания для предсказания исхода тех или иных мероприятий по ряду природных признаков, поведению, полёту и крикам птиц.
Чарльз Чаплин — американский и английский киноактёр, сценарист, композитор, кинорежиссёр, продюсер и монтажёр, универсальный мастер кинематографа, создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино — образа бродяги Чарли, появившегося в короткометражных комедиях, поставленных на поток в 1910-е на киностудии Кистоун.
Панама — государство с президентской формой правления, унитарным государственным устройством и демократическим режимом.
Аплодисменты — как правило — одобрение, выражаемое публикой рукоплесканием при различного рода зрелищах и представлениях, даваемых на сценических площадках, а также во время спортивных соревнований, церемоний награждений, произнесения речей и т.д.
Barbara Corcoran is an American businesswoman, investor, speaker, consultant, syndicated columnist, author, and television personality.
Дональд Трамп американский государственный деятель, политик, предприниматель, действующий президент Соединённых Штатов Америки с 20 января 2017.
Молния — электрический искровой разряд в атмосфере, обычно может происходить во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.
ДнепроГЭС — крупная гидроэлектростанция на юге Украины, пятая ступень каскада гидроэлектростанций, обеспечивает электроэнергией Донецко-Криворожский промышленный район.
Компьютер — устройство или система, способная выполнять заданную, чётко определённую, изменяемую последовательность операций.
Ницца — средиземноморский город, порт и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег.
Курорт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
Электрический ток — направленное движение частиц или квазичастиц — носителей электрического заряда.
Мощность — скалярная физическая величина, равная в общем случае скорости изменения, преобразования, передачи или потребления энергии системы.
Электрическое напряжение между точками A и B электрической цепи или электрического поля — скалярная физическая величина, значение которой равно работе эффективного электрического поля, совершаемой при переносе единичного пробного электрического заряда из точки A в точку B.
Вольт — в Международной системе единиц единица измерения электрического потенциала, разности потенциалов, электрического напряжения и электродвижущей силы.
Сила тока — физическая величина I, равная отношению количества заряда ΔQ, прошедшего через некоторую поверхность за некоторое время Δt, к величине этого промежутка времени.
Ампер — единица измерения силы электрического тока в Международной системе единиц, одна из семи основных единиц СИ.
Ватт — единица измерения мощности, а также теплового потока, потока звуковой энергии, мощности постоянного электрического тока, активной и полной мощности переменного электрического тока, потока излучения и потока энергии ионизирующего излучения в Международной системе единиц.
Секунда — единица измерения времени, одна из основных единиц Международной системы единиц и системы СГС.
Лазер — это устройство, преобразующее энергию накачки в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.
Письменный стол — это стол, предназначенный для выполнения письменных работ и аналогичных занятий сидя.
Радар — система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров.
Звёздные войны — киноэпопея в жанре космическая опера, включающая в себя 11 художественных фильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы, книги, комиксы, видеоигры, игрушки и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической вселенной Звёздных войн, задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в конце 1970-х и позднее расширенной.
Половой акт — генитальный контакт двух особей с целью получения полового удовлетворения, а также для продолжения рода.
Кульминация — наиболее напряженный момент в развитии действия, решающий, переломный момент во взаимоотношениях, столкновениях литературных героев или между героем и обстоятельствами.
Оргазм — кульминация сексуального возбуждения, характеризующаяся сильным чувством наслаждения, удовлетворения.
Радость — внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия, весёлого настроения и счастья, ласкательное обращение.
Вычислительная математика — раздел математики, включающий круг вопросов, связанных с производством разнообразных вычислений.
Шахматный этюд — составленная шахматным композитором позиция, в которой одной из сторон предлагается выполнить задание без указания количества ходов, необходимых для достижения этой цели.
Интеграл — одно из важнейших понятий математического анализа, которое возникает при решении задач о нахождении площади под кривой, пройденного пути при неравномерном движении, массы неоднородного тела, и тому подобных, а также в задаче о восстановлении функции по её производной.
Форум — интернет-сервис для общения между пользователями интернета на одну тему или на несколько тем.
Физиология — наука о сущности живого, жизни в норме и при патологиях, то есть о закономерностях функционирования и регуляции биологических систем разного уровня организации, о пределах нормы жизненных процессов и болезненных отклонений от неё.
Нерв — составная часть нервной системы; покрытая оболочкой структура, состоящая из сплетения пучков нервных волокон, обеспечивающее передачу сигналов между головным и спинным мозгом и органами.
Конденсатор — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.
Магнетрон — электронный прибор, генерирующий микроволны при взаимодействии потока электронов с электрической составляющей сверхвысокочастотного поля в пространстве, где постоянное магнитное поле перпендикулярно постоянному электрическому полю.
Клистрон — электровакуумный прибор, в котором преобразование постоянного потока электронов в переменный происходит путём модуляции скоростей электронов электрическим полем СВЧ и последующей группировки электронов в сгустки в пространстве дрейфа, свободном от СВЧ-поля.
Триггер — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов.
Новый русский — клише, обозначающее представителей социального класса СНГ, сделавших большое состояние в 1990-е, после развала Советского Союза.
Уильям Сомерсет Моэм — британский писатель, один из самых преуспевающих прозаиков 1930-х, автор 78 книг, агент британской разведки.
Гармония в философии — согласование разнородных и даже противоположных элементов, в эстетике — слаженность целого, рождающаяся от сочетания противоположных по качеству сущностей.
Камбоджа — государство в Юго-Восточной Азии, на юге полуострова Индокитай, со столицей Пномпень.
Пномпень — столица Камбоджи, город центрального подчинения, располагается на реке Тонлесап.
Андрей Гарольдович Кнышев — советский и российский телеведущий, режиссёр и сценарист, юморист, писатель-сатирик.
Германская Демократическая Республика — государство в Центральной Европе, существовавшее с 7 октября 1949 до 3 октября 1990.
Генеральный секретарь ЦК КПСС — высшая должность в Коммунистической партии Советского Союза.
Кавалерия — род войск, ранее род оружия, в котором для ведения боевых действий или передвижения использовалась лошадь.
Полк — формирование, основная тактическая и административно-хозяйственная единица в вооружённых силах многих государств.
Лицо — передняя часть головы человека, сверху ограниченная границей волосистого покрова головы, внизу — углами и нижним краем нижней челюсти, с боков — краями ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
Глаз — сенсорный орган животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения.
Осязание — одно из пяти основных видов чувств, к которым способен человек, заключающееся в способности ощущать прикосновения, воспринимать что-либо рецепторами, расположенными в коже, мышцах, слизистых оболочках.
Атавизм — появление у данной особи признаков, свойственных отдалённым предкам, но отсутствующих у ближайших.
Культура — понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности.
Психика — сложное понятие в философии, психологии и медицине, которое в зависимости от областей знаний и направлений наук определяется как: совокупность душевных процессов и явлений; специфический аспект жизнедеятельности животных и человека в их взаимодействии с окружающей средой; форма активного отображения субъектом объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия высокоорганизованных живых существ с внешним миром и осуществляющая в их поведении регулятивную функцию; системное свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном отражении субъектом объективного мира, в построении неотчуждаемой от него картины мира и регуляции на этой основе своего поведения и деятельности; внутренний мир человека.
Сифилис — хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида Treponema pallidum подвида pallidum, относящимся к роду трепонем порядка Спирохеты.
Болезнь — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.
Сознание — состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий внешнего мира и тела организма, а также в отчёте об этих событиях и ответной реакции на эти события.
Нос — сатирическая абсурдистская повесть, написанная Николаем Васильевичем Гоголем в 1832 — 1833.
Корпорация — объединение лиц по сословному или профессиональному признаку; например, студенческая корпорация.
Пирсинг септум — прокол центральной носовой перегородки между ноздрями или же прокол между хрящом и перегородкой.
Очки — самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза, либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.
Заговор — тайное соглашение о совместных организованных действиях, преследующих цель захватить власть или совершить иное преступление против существующего строя.
Табак — высушенные, измельчённые и ферментированные листья и стебли некоторых видов одноимённого рода растений, употребляемые для курения, нюхания или жевания.
Индикатор — прибор, устройство, информационная система, вещество, объект, отображающий изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим легко интерпретируемым способом.
Geek chick. The Nose Is a Hoax
The nose does not exist. It’s just that the human brain is designed in such a way that it completes the image in the mirror so that you don’t go crazy from cognitive contradictions.
Маргарет Тэтчер — премьер-министр Великобритании в 1979 — 1990, лидер Консервативной партии в 1975 — 1990, баронесса с 1992.
Мини-юбка — короткая юбка, юбка с краем на значительном расстоянии выше колен, не ниже середины бёдер, мини-платье — платье с таким краем.
Яички — парные мужские гонады, в которых образуются мужские половые клетки — сперматозоиды и стероидные гормоны, в основном тестостерон.
Нэнси Рейган — супруга 40-го президента США Рональда Рейгана, первая леди США с 1981 по 1989.
Иван Андреевич Крылов — русский публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-просветительских журналов.
Рожа — острое, нередко рецидивирующее инфекционное заболевание, вызываемое β-гемолитическим стрептококком группы A.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы; масса планеты составляет 10,7% массы Земли.
Гольф — спортивная игра, в которой отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, пытаясь пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.
Клюшка для гольфа — спортивный снаряд в виде палки с загнутым концом для игры в гольф.
Содружество Независимых Государств — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР.
Геннадий Викторович Хазанов — советский и российский артист эстрады, актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель московского Театра эстрады.
Рабоче-крестьянская Красная армия — формирование вооружённых сил, сухопутные войска РСФСР в 1918 — 1922 и сухопутная составляющая вооружённых сил СССР в 1922 — 1946.
Водолаз — специалист, умеющий выполнять работы под водой в водолазном снаряжении и допущенный к производству водолазных спусков в установленном порядке.
Стена — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства или соседних комнат.
Велосипед — колёсное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или через ручные рычаги.
Провод — электротехническое изделие, служащее для соединения источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы.
Колесо — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.
Календарь — система счисления больших промежутков времени, основанная на периодичности движения небесных тел: Солнца — в солнечных календарях.
Лето — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.
Реальность — философский термин, употребляющийся в разных значениях как существующее вообще; объективно явленный мир; фрагмент универсума, составляющий предметную область соответствующей науки; объективно существующие явления, факты, то есть существующие действительно.
Удовольствие — положительно окрашенная эмоция, сопровождающая удовлетворение одной или нескольких потребностей.
Стих — стиховедческий термин, используемый в нескольких значениях: художественная речь, организованная делением на ритмически соизмеримые отрезки; поэзия в узком смысле; в частности, подразумевает свойства стихосложения той или иной традиции; строка стихотворного текста, организованная по определённому ритмическому образцу.
Живопись — вид изобразительного искусства, основанный на живописном, так называемом далевом смотрении на натуру, при котором основным является восприятие объекта во взаимосвязи с пространственной и свето-воздушной средой.
Искусство — осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего и внешнего мира в художественном образе.
Велимир Хлебников — русский поэт и прозаик, один из крупнейших деятелей русского авангарда.
Пабло Пикассо — испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер.
Иван Иванович Шишкин — выдающийся русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист.
Илья Ефимович Репин — русский живописец, педагог, профессор, действительный член Императорской Академии художеств.
Классическая музыка — образцовые музыкальные произведения, золотой фонд мировой музыкальной культуры.
Петр Ильич Чайковский — русский композитор, педагог, дирижёр и музыкальный критик.
Утро в сосновом лесу — картина русских художников И.И. Шишкина и К.А. Савицкого.
Руслан и Людмила — первая законченная поэма Александра Сергеевича Пушкина; волшебная сказка, вдохновлённая древнерусскими былинами.
Щелкунчик — соч. 71, балет П.И. Чайковского в двух актах на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана Щелкунчик и мышиный король.
Генетика — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
Стингер — американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей, кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей.
Нюрнбергские мейстерзингеры — опера Рихарда Вагнера в 3 действиях на собственное либретто на немецком языке, написанная в 1861 — 1867 и считающаяся одной из вершин творчества Вагнера.
Проза — устная или письменная речь без деления на соизмеримые отрезки — стихи; в противоположность поэзии её ритм опирается на приблизительную соотнесенность синтаксических конструкций.
Хорей — двухсложный стихотворный размер, стопа которого содержит долгий и следующий за ним краткий или ударный и следующий за ним безударный слоги.
Валерий Петрович Лебедев — советский философ и историк, редактор и издатель американского общественно-политического еженедельника Лебедь на русском языке, журналист, пионер журналистского расследования Петрикгейта.
Остап Бендер — главный герой романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова Двенадцать стульев и Золотой телёнок.
Фиоритура — название музыкального украшения в вокальной или инструментальной партии, один из способов аранжировки.
Лев и медведь: юмор в Войне и мире | Ленин и ведьмы, или Искусство не быть арестованным | Ложь как точная наука |
George W. Bush is an American politician and businessman who served as the 43rd president of the United States from 2001 to 2009.

Тригонометрия — раздел математики, в котором изучаются тригонометрические функции и их использование в геометрии.
A.B. Axamirsky. Gift Theory
The goal is to give the recipient a gift of joy: to help him achieve satisfaction i.e. confirm his significance.
Марьян Дпаидович Беленький — украинский, российский и израильский литератор, переводчик, журналист, артист разговорного жанра, радиоведущий, сценарист.
Трудодень — мера оценки и форма учёта количества и качества труда в колхозах в период с 1930 по 1966.
Мясо — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью или без неё.
Диверсия — скрытные, тщательно подготовленные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп или отдельных разведчиков — диверсантов — по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели.
Программист — специалист, занимающийся программированием, то есть созданием компьютерных программ.
Обществоведение — название учебного предмета в советской школе, преподававшегося с 1960-х по 1991 на всей территории СССР.
The Good, the Weird and the Hilarious Scientific Papers | The less Americans know about Ukraine’s location, the more they want U.S. to intervene | top10 самых глупых научных исследований |
Maryan Belenky. Wrong Theory
The question is considered how to use the wrong theory to get the right results.
История России насчитывает более тысячи лет, начиная с переселения восточных славян на Восточно-Европейскую равнину в VI — VII веках, впоследствии разделившихся на русских, украинцев и белорусов.
Вуз — учебное заведение, дающее высшее профессиональное образование и осуществляющее научную деятельность.
Лукоморье — В ранних западноевропейских картах Lucomoria обозначала территорию, прилегающую к правому берегу Обской губы по соседству с Обдорой.
Золотая Баба — легендарный идол, предмет поклонения населения Северо-Восточной Европы и Северо-Западной Сибири, поэтому в Сибири Золотую Бабу иначе называют Сиби́рский фарао́н.
Сибирь — обширный географический регион на севере Азии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, идущими вдоль Тихого океана, с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России.
Исландия — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана, на севере и северо-востоке омывается Северным Ледовитым океаном.
Либерализм — философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и личных свобод человека.
Литературные жанры — исторически складывающиеся группы литературных произведений, объединённых совокупностью формальных и содержательных свойств.
Корыто — большой открытый продолговатый сосуд с округлёнными стенками, предназначенный для стирки белья, кормления скота и для других домашних надобностей.
Изба — деревянный срубный жилой дом в сельской лесистой местности на территории расселения восточных славян.
Столбовое дворянство — в Российской Империи представители дворянских родов, относившиеся к древним потомственным дворянским родам.
Трон — богато отделанное кресло на специальном возвышении как место монарха во время торжественных церемоний.
Алгоритм — конечная совокупность точно заданных правил решения произвольного класса задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения некоторой задачи.
Вера — признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, преимущественно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры.
Романовы — русский боярский род, носивший такую фамилию с конца XVI века; с 1613 — династия русских царей и с 1721 — императоров всероссийских, а впоследствии — царей Польши, великих князей Литвы и Финляндии, герцогов Ольденбурга и Гольштейн-Готторпа и великих магистров Мальтийского Ордена.
Киевская Русь — средневековое государство в Восточной Европе, оформившееся в IX веке в результате объединения ряда восточнославянских и финно-угорских племён под властью князей династии Рюриковичей.
Жених — неженатый мужчина, имеющий или ищущий невесту, будущий муж; молодой человек, достигший брачного возраста.
Владимир Мономах — князь ростовский, князь смоленский, черниговский, переяславский, великий князь киевский, государственный деятель, военачальник, писатель,
Сказка о царе Салтане — сказка в стихах Александра Пушкина, написанная в 1831 и впервые изданная в следующем году в собрании стихотворений.
Константинополь — название Стамбула до 28 марта 1930, неофициальное название столицы Римской империи.
Стамбул — крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны.
Бочка — сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ.
Черномор — персонаж поэмы А.С. Пушкина Руслан и Людмила, также в Сказке о царе Салтане встречается дядька Черномор.
Остров — участок суши в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива.
Полуостров — часть суши, с трёх сторон омываемая морем, а четвёртой примыкающая к материку, острову.
Беременность — особое состояние организма женщины, при котором в её репродуктивных органах находится развивающийся эмбрион или плод.
Суша — часть поверхности планеты Земля, не покрытая водами Мирового океана и другими водными объектами.
Капитан — морской термин, означающий должностное лицо, возглавляющее экипаж гражданского судна и несущее ответственность за его действия; в штатной ситуации необходимым и обязательным считается обладание судоводительским образованием и наличие морского звания капитана — представитель судовладельца и грузовладельцев в отношении долгов и исков, обусловленных нуждами судна, груза и плавания, при отсутствии их иных представителей.
Полярная звезда — звезда видимой звёздной величины +2,0m в созвездии Малой Медведицы.
Фиолент — мыс на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.
Вифлеем — город на Западном берегу реки Иордан, находящийся под военным и гражданским контролем Палестинской национальной администрации, столица палестинской провинции Вифлеем, в исторической области Иудея; центр паломничества и туризма. Расположен в 10 км к югу от Иерусалима, с которым фактически граничит.
Пещера Рождества — грот, в котором, согласно христианскому преданию, родился Иисус Христос от Девы Марии; величайшая христианская святыня.
Базилика Рождества Христова — христианская церковь в Вифлееме, построенная, согласно преданию, над местом рождения Иисуса Христа.
Евангелие — в христианстве, весть о наступлении Царства Божия и спасении рода человеческого, провозглашённая Иисусом Христом и апостолами.
33 богатыря фигурируют во втором конспекте народной сказки, записанной Пушкиным, возможно, от Арины Родионовны.
Андрей Первозванный — один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; первым, согласно Евангелию от Иоанна, был призван Иисусом Христом, поэтому назван Первозванным.
Назарет — город в Галилее, на севере Израиля; священный христианский город, третий по значимости после Иерусалима и Вифлеема.
Чуфут-Кале — средневековый крымскотатарский город-крепость в Крыму, родовая крепость известной крымской правительницы Джанике, расположена на горном плато в 2,5 км к востоку от Бахчисарая.
Иудаизм — религиозное, национальное и этическое мировоззрение, сформировавшееся у еврейского народа; одна из древнейших монотеистических религий человечества и самая древняя из существующих в настоящее время.
Тавры -народ, населявший в древности южное побережье Крыма, известное в то время как Таврика или Таврида.
Пещера — полость в верхней части земной коры, сообщающаяся с поверхностью одним или несколькими входными отверстиями.
Чайковское — село в Симферопольском районе Республики Крым, входит в состав Добровского сельского поселения.
Село — один из видов населённых пунктов России, а также Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Болгарии и Израиля, относящихся к так называемым сельским населённым пунктам.
Кизил-Коба — пещера-источник, расположенная в Крымских горах на отрогах Долгоруковской яйлы вблизи, ныне не существующего, села Краснопещерного, в 3 км от села Перевального Симферопольского района.
Урочище — в широком смысле, народное название любого географического объекта или ориентира, о котором договорились люди.
Дева Мария — в христианстве земная мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых личностей и величайшая из христианских святых.
Готская епархия — древняя православная епархия Константинопольского патриархата в Крыму с центром в городе Мангупе.
Успенский Анастасиевский монастырь — мужской монастырь Симферопольской епархии Украинской православной церкви, расположенный в урочище Мариам-Дере вблизи Бахчисарая.
Успение Пресвятой Богородицы — праздник православной и католической церквей, посвящённый воспоминанию кончины Божией Матери.
Крымское ханство — в европейской географии и историографии Нового времени — Малая Татария — государство крымских татар в Крыму,
Мариуполь — город Донецкой области на юго-востоке Украины, крупнейший город на берегу Азовского моря в устье рек Кальмиус и Кальчик.
Некрополь — комплекс погребений древнего мира: большое кладбище (подземные галереи, склепы, камеры), расположенное на окраине древних городов, с гробницами и каменными надгробиями.
Георгиевский монастырь — православный мужской монастырь Симферопольской епархии Украинской православной церкви, расположенный в Балаклавском районе Севастополя у побережья Чёрного моря, рядом с мысом Фиолент.
Спаситель мира — одно из сакральных наименований Иисуса Христа, тип иконографического церковного образа.
Караимы — немногочисленная этническая группа, происходящая от тюркоязычных последователей караимизма в Восточной Европе.
Скульптура — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых материалов методом высекания, удаления лишнего из начальной массы каменного или иного блока.
Икона — в христианстве священное изображение лиц или событий библейской или церковной истории.
Католицизм — крупнейшее по численности приверженцев направление в христианстве, объединяющее более чем 1,3 миллиарда человек.
Лебединые девы — в германской мифологии обозначение валькирий, владеющих способностью принимать вид лебедей.
Колдун — человек, практикующий волшебство для воздействия на людей или природу либо для получения знания или мудрости посредством сверхъестественных явлений.
Ведьма — женщина, практикующая магию, а также обладающая магическими способностями и знаниями.
Лоб — анатомическая область головы человека, ограниченная волосистой частью головы сверху и бровями.
Ислам — самая молодая и вторая по численности приверженцев, после христианства, мировая монотеистическая авраамическая религия.
Вена — федеральная столица Австрии и одновременно одна из девяти федеральных земель Австрии, расположенная внутри другой земли, Нижней Австрии.
Турки — тюркоязычный народ, разговаривающий на турецком языке, относящемся к тюркской ветви алтайской языковой семьи, основное население Турции, являются второй по численности этнической группой на Кипре.
Реликвия — свято хранимая, почитаемая вещь, связанная с историческими или религиозными событиями прошлого.

Восстание Пугачева — восстание яицких казаков, переросшее в полномасштабную войну казаков, крестьян и народов Урала и Поволжья с правительством императрицы Екатерины II.

Николай Михайлович Карамзин — историк, крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма, прозванный русским Стерном.
Иоанн Кронштадтский — священник Русской православной церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора в Кронштадте; член Святейшего правительствующего синода с 1906; вдохновитель создания и почётный член Союза русского народа.
Престол — в христианском храме стол, находящийся в середине алтаря, освящённый архиереем для совершения на нём Евхаристии.

Иван Грозный — государь, великий князь московский и всея Руси с 1533, первый венчаный царь всея Руси.
Serge V. Ochkivsky. The secret meaning of the tale At Lukomorye. The real history of Russia, or why they killed Pushkin
February 10 is the anniversary of the death of one of the greatest figures of world and Russian culture — Alexander S. Pushkin. Numerous researchers of his biography have established that it was a contract murder. But here is the customer and the motives of this greatest crime are still in doubt.
Дзэн — одна из важнейших школ китайского и всего восточно-азиатского буддизма, окончательно сформировавшаяся в Китае в V — VI веках под большим влиянием даосизма и являющаяся доминирующей монашеской формой буддизма Махаяны в Китае, Вьетнаме и Корее.
Сердце — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.
Мировой экономический кризис 2008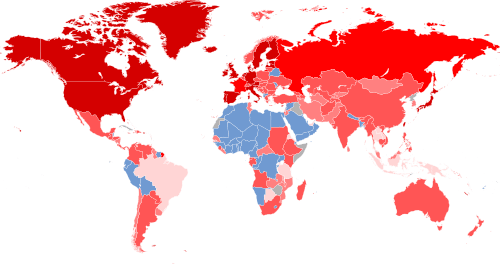
Мировой экономический кризис 2008 — кризисное состояние мировой экономики, резко обозначившееся с 2008.

Квинтэссенция — самое главное, самое важное, наиболее существенное, основная сущность, самая тонкая и чистая сущность.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций — федеральная служба, в задачи которой входят надзор в сфере связи, информационных технологий и СМИ, а также надзор по защите персональных данных согласно закону и деятельность по организации радиочастотной службы.

Vladimir Pinaeff. General Theory of Dispute
Any dispute develops from complex to simple and from reason to heart. A dispute has five stages.
The general theory of the dispute turned out to be so compact that the Еditorial Staff published a more extensive afterword to this theory.
Леонард Эйлер — швейцарский, немецкий и российский математик и механик, внёсший фундаментальный вклад в развитие этих наук.

Финансист — термин, характеризующий человека, который обычно имеет дело с большими объемами денежных средств и, как правило, занимается финансированием проектов, крупномасштабным инвестированием или управлением капитала.
Обязательное социальное страхование в России — фонды имеют собственные бюджеты, независимые от бюджетной системы России.
Академик — член или, при нескольких ступенях членства, член высшей ступени организации учёных — академии наук.

Российская академия наук — государственная академия наук Российской Федерации, крупнейший в стране центр фундаментальных исследований.

Oxana H. Dmitrieva, Eugene I. Lubyanitsky. General Formula of Pension Calculation
If this formula Euler, Pythagoras or Kolmogorov seen, they have turned over in his grave.
Кассандра — в древнегреческой мифологии троянская царевна, наделённая Аполлоном даром пророчества и предвидевшая гибель Трои.

Кактусовые — семейство многолетних цветковых растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

Полярный круг — воображаемая линия на поверхности планеты, параллель, выше широты́ которой бывают полярный день и полярная ночь.

Pubmed — англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций, созданная Национальным центром биотехнологической информации США на основе раздела «биотехнология» Национальной медицинской библиотеки США.

MEDLINE — крупнейшая библиографическая база статей по медицинским наукам, созданная Национальной медицинской библиотекой США.
Метод мозгового штурма — метод поиска решения проблемы, через перебор вариантов на основе стимулирования творческой активности.

Литр — внесистемная метрическая единица измерения объёма и вместимости, равная 1 кубическому дециметру.

Идиотия — самая глубокая степень олигофрении, в тяжёлой форме характеризующаяся почти полным отсутствием речи и мышления: больные произносят лишь нечленораздельные звуки, как правило, не понимают смысла обращённой к ним речи, эмоциональные проявления элементарны, ограничены проявлением недовольства или удовольствия.
Золушка — западноевропейская сказка, наиболее известная по редакциям Шарля Перро, братьев Гримм и Джамбаттисты Базиле.

Грант — безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение, лечение и другие цели с последующим отчётом об их использовании.
Когнитивный диссонанс — состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.
Катарсис — процесс высвобождения эмоций, разрешения внутренних конфликтов и нравственного возвышения, возникающий в ходе самовыражения или сопереживания при восприятии произведений искусства.
Озарение — интеллектуальное явление, суть которого в неожиданном понимании стоящей проблемы и нахождении её решения.
Печень — жизненно важная железа внешней секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Редакція ПЧК прохає своїх читачів і шанувальників наукового гумору розповсюдити у соціальних мережах або будь-якими іншими способами інформацію про те, що ми, нарешті, почали кампанію зі збору коштів на редизайн нашого сайту на японській краудфандинговій платформі ![]() .
.
Заздалегідь вдячні.
T.C.A. Editorial Board asks its readers and admirers of scientific humor to disseminate on social networks or by any other means that we have finally launched a croudfunding campaign to redesign our site on the Japanese platform ![]() .
.
Thank in advance.
Резервное копирование — процесс создания копии данных на носителе, предназначенном для восстановления данных в оригинальном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения.

Инфаркт — одна из клинических форм ишемической болезни сердца, протекающая с развитием ишемического некроза участка миокарда, обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения.

Статистика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических данных и их сравнение; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.

В математике теорема — это утверждение, которое было доказано на основе ранее установленных утверждений: других теорем и общепринятых утверждений, аксиом.

Экзерсис — устаревшее наименование занятий вообще с целью должного овладения теми или иными навыками, первоначально подразумевавшее, в широком смысле — систематические упражнения в различных дисциплинах, требующих владения рядом приемов; например, в фехтовании, вольтижировке, при освоении техники игры на музыкальном инструменте.
Суеверие — религиозный предрассудок, представляющий собой веру или практику, основанную на восприятии сил, необъяснимых законами природы, поскольку эти силы не находят себе обоснования в самом религиозном учении.

Шампанское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.

Ryba_Barrakuda. The Share Of a Joke About Science
Today is Friday, and I have the lots of cases that don’t need to be a Cassandra, to understand it will not now incomplete. Therefore I decided to tell you the grief of what constitutes any scientific work, even if it’s devoted to studying the effect of the first letter of surname of a person on its ability to grow cacti in polar conditions.
Покаяние — советский художественный фильм, психологическая драма режиссёра Тенгиза Абуладзе, снятая в 1984.

Вели́кий дикта́тор — классический кинофильм Чарли Чаплина, политическая сатира на нацизм и в особенности на Гитлера.

Адольф Гитлер — немецкий политик и оратор, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне.

Бенито Муссолини — итальянский политический и государственный деятель, публицист, лидер Национальной фашистской партии, диктатор, вождь, возглавлявший Италию как премьер-министр в 1922 — 1943.

Прозвище — вид антропонима, дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой или профессией, сопутствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналоги.

Пляска святого Витта — синдром, характеризующийся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными движениями, сходными с нормальными мимическими движениями и жестами, но различные с ними по амплитуде и интенсивности, то есть более вычурные и гротескные, часто напоминающие танец.

Эшелон — временное формирование или его составная часть, воинская команда, организованные, в соответствии с руководящими документами, для перевозки в одном поезде и занимающие не менее одного вагона, а в отдельных случаях с партией изделий.

Освенцим — комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940 —1945 в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова.

Плебс — население Древнего Рима, первоначально не пользовавшееся политическими правами в отличие от патрициев.
Йохан Хёйзинга — нидерландский философ, историк, исследователь культуры, профессор Гронингенского и Лейденского университетов.

Вторая мировая война — война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества.

Шут — лицо при дворе государя или в барском доме, в обязанности которого входило развлекать и смешить забавными выходками господ и гостей.

Преступление — общественно опасное деяние, совершение которого влечёт применение к лицу меры уголовной ответственности.
Достоинство — уважение и самоуважение человеческой личности как морально-нравственная категория, характеристика человека со стороны его внутренней ценности, соответствия своему предназначению.
Коррида — наиболее распространённая форма боя быков, традиционное испанское зрелище, практикующееся также и в некоторых других странах, в частности в Южной Америке.

Вождь — глава племени или вождества в общинных обществах, а также глава в некоторых жёстко централизованных недемократических государствах и партиях.
Стенография — способ письма посредством особых знаков и целого ряда сокращений, дающий возможность быстро записывать устную речь.

Оратор — выступающий перед публикой человек, в арсенале которого есть развитое умение убеждать, актёрская игра и красноречие.

Партия — объединённая группа людей, непосредственно ставящая перед собой задачи овладеть политической властью в государстве или принять в ней участие через своих представителей в органах государственной власти и местного самоуправления.
Оппозиция — в политике — движение, партия, группа или человек, выступающая против господствующей партии или мнения, поддерживаемого большинством, в партии или группе.

Враг народа — термин римского права, предполагавший объявление лица вне закона и подлежащим безусловному уничтожению.

Артиллерия — один из трёх старейших родов войск, основная ударная сила сухопутных войск современных Вооружённых Сил.

Имманентность — это учение о проявлении божественного в материальном мире, которое поддерживается некоторыми философскими и метафизическими теориями о божественном присутствии.
Воля — способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым решением.
Сталинизм — политическая система в СССР в конце 1920-х — начале 1950-х и лежавшая в её основе идеология.

Советский народ — гражданская идентичность в СССР. С.Т. Калтахчян в Большой советской энциклопедии определял эту общность так:
историческая, социальная и интернациональная общность людей, имеющих единую территорию, экономику, социалистическую по содержанию культуру, союзное общенародное государство и общую цель — построение коммунизма; возникла … в результате социалистических преобразований и сближения трудящихся классов и слоёв, всех наций и народностей.
Родина — место рождения человека, его происхождения; родная страна, Отечество; страна, в которой человек родился и гражданином которой является; модель отношений между индивидом и обществом, между гражданином и государством, между личностью и централизованной идеологической системой; место происхождения, возникновения объекта или явления.

Голодомор — неодноразова масова загибель людей від голоду на території УРСР, спричинена зумисними діями сталінської влади і спрямована на геноцид корінного населення.

Дерево познания добра и зла — согласно библейской книге Бытия, особое дерево, посаженное Богом наряду с Древом жизни посреди Эдемского сада.

Грех — действие или помышление, которое, как правило, ассоциируется с отступлением от праведной жизни, прямым или косвенным нарушением религиозных заповедей; реже — нарушение доминантных морально-этических правил, норм и традиций, установившихся в обществе.

Райское яблоко — плод мифологического Древа познания Добра и Зла в христианской традиции.

Министерство — орган государственного управления отдельной сферой деятельности.

Контора — в Российской империи название некоторых административных и торгово-промышленных учреждений.

Спекуляция в экономической лексике — получение дохода за счёт разницы между ценами покупки и продажи.

Бюрократия — система управления, осуществляемая с помощью аппарата, стоящего над обществом.

Оппортунизм — в современной экономической теории под оппортунизмом понимают следование своим интересам, в том числе обманным путём.

Шпионаж — противозаконная разведывательная деятельность органов иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации спецслужбами других государств.
Империализм — государственная политика, основанная на использовании военной силы для разных форм внешнеполитической экспансии, в том числе для захвата территорий, формирования колоний и установления политического или экономического контроля над другими странами.
Волга-Волга — советская музыкальная комедия режиссёра Григория Александрова, премьера которой состоялась 24 апреля 1938.
Баня — сатирическая пьеса в шести действиях с цирком и фейерверком Владимира Маяковского.
Психопатия — расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности.
Паранойя — редкий тип хронического психоза, обычно начинающегося в зрелом возрасте, для которого характерно постепенное развитие логически построенных монотематических систематизированных бредовых идей, при этом, в отличие от шизофрении, с отсутствием прогрессирования негативных симптомов и изменений личности.

Шизофрения — эндогенное полиморфное психическое расстройство, характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.
Николай Иванович Бухарин — русский революционер, советский политический, государственный и партийный деятель.

Алексей Иванович Рыков — российский революционер, советский политический и государственный деятель, первый народный комиссар внутренних дел РСФСР, народный комиссар почт и телеграфа СССР, председатель СНК СССР и одновременно СНК РСФСР, председатель ВСНХ РСФСР и ВСНХ СССР, член Политбюро.

Коннотация — сопутствующее значение языковой единицы.

Национализм — идеология и направление политики, основополагающим принципом которой является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства, её первичности в государствообразующем процессе. Как политическое движение, национализм стремится к созданию государства, которое охватывает территорию проживания нации и отстаивает её интересы.

Григорий Евсеевич Зиновьев — российский революционер, советский политический и государственный деятель.

Дон Кихот — центральный образ романа Мигеля де Сервантеса Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский — одного из наиболее популярных произведений мировой литературы.
Меньшевики — умеренное крыло Российской социал-демократической рабочей партии, с 24 апреля 1917 — самостоятельная Российская социал-демократическая рабочая партия.
Пустыня — природная зона, характеризующаяся преимущественно или полностью равнинной поверхностью, разреженностью или отсутствием флоры и специфической фауной.
Гоби — обширный регион в Центральной Азии, третья по величине жаркая пустыня в мире, характеризующийся пустынными и полупустынными ландшафтами.
Саранча — несколько видов насекомых семейства настоящие саранчовые, способных образовывать крупные стаи, мигрирующие на значительные расстояния.
Водевиль — комедийная пьеса с песенками-куплетами и танцами, а также жанр драматического искусства.
Дворник — человек, работа которого связана с поддержанием чистоты и порядка во дворе и на улице.
Орнитология — раздел зоологии позвоночных, изучающий птиц, их эмбриологию, морфологию, физиологию, экологию, систематику и географическое распространение.

Репрессии — наказание, карательные меры, применяемые государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя.

Демагогия — набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках.

Риторика — филологическая дисциплина, изучающая искусство речи, правила построения художественной речи, ораторское искусство, мировоззрение и красноречие.
Эксгибиционизм — форма отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путём демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола, а также в публичных местах.
Мелодрама — жанр художественной литературы, театрального искусства и кинематографа, произведения которого раскрывают духовный и чувственный мир героев в особенно ярких эмоциональных обстоятельствах на основе контрастов: добро и зло, любовь и ненависть и тому подобного.

Индустриализация — процесс форсированного наращивания промышленного потенциала Союза ССР, осуществлявшийся с мая 1929 по июнь 1941 с целью сокращения отставания советской экономики от экономики развитых капиталистических государств.

Крестьянин — сельский житель, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей основной работой.
Вульгарность — грубость, непристойность, бестактность, отсутствие вкуса у человека.

Коллективизация — политика объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные, проводившаяся в СССР в период с 1927 по 1937 с целью преобразования мелких индивидуальных хозяйств в крупные общественные производства для упрощения системы изъятия сельскохозяйственных продуктов и обеспечения за этот счёт роста промышленных производств — индустриализации.
Социология — наука об обществе, составляющих его системах и закономерностях его функционирования и развития, социальных институтах, отношениях и общностях.
Писатель — человек, который занимается созданием словесных произведений, предназначенных так или иначе для общественного потребления.
Артист — деятель искусств, человек, занимающийся творчеством в какой-либо области искусства, художник, музыкант, актёр.

Журналист — человек, литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средства массовой информации, связанный с ним трудовыми или иными договорными отношениями — или занимается такой деятельностью по собственной инициативе.
Политик — лицо, профессионально занимающееся политической деятельностью, и состоящий как правило в какой-либо партии.
Коминтерн — международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран в 1919 — 1943.
Базис и надстройка — способ производства материальных благ и соответствующая ему структура классов, которые составляют экономическую основу общества и совокупность институтов общества, его идеологии, служащих господствующему, то есть эксплуататорскому классу для контроля над эксплуатируемым классом.

Номенклатура — это правящий класс, власть имущие, политическая элита.

Гражданин — человек, принадлежащий к постоянному населению данного государства, пользующийся его защитой и наделённый совокупностью политических и иных прав и обязанностей.

Доход — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый период времению
Сатира — резкое проявление комического в искусстве, представляющее собой поэтическое унизительное обличение явлений при помощи различных комических средств: сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии и других.
Козел отпущения — в иудаизме особое животное, которое, после символического возложения на него грехов всего народа, отпускали в пустыню.
Русская душа — происходящий из русской литературы стереотип, отражающий уникальные черты менталитета русских в сравнении с иностранцами.

Учитель — ныне одна из самых распространённых общественных профессий, преподаватель, педагог.
XVII съезд ВКП — проходил в Москве с 26 января по 10 февраля 1934 и получил название Съезд победителей.

Аппарат — снаряжение, оборудование — завершённая совокупность частей или элементов для выполнения какой-либо функции; совокупность органов управления, руководства чем-либо; совокупность учреждений, обслуживающих какую-либо область управления или хозяйства.

Полицейский — рядовой служащий полиции.

Victor P. Makarenko. On the Contribution of Comrade Stalin To the Theory and Practice of Humor
Stalin made the audience laugh in almost every speech. Hence, the laughter of the audience gave him pleasure.
But this does not mean that Stalin was a classic of laughter.
Социальные науки — науки об обществе; крупная классификационная группа, соответствующая: а) в контексте гносеологии — одной из трёх главных областей научного знания, наряду с естествознанием и философией; б) в контексте утилитарных задач управления и планирования учебным процессом, организационной структуры учебных заведений, категоризацией и рубрикации областей науки для прикладных нужд — некий набор дисциплин, составленный по признаку объекта изучения: отношение к обществу, его социальным группам и индивидам.

Лицемерие — моральное качество, состоящее в том, что заведомо безнравственным поступкам приписываются псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели.

Злодей — резко отрицательный персонаж в исторических повествованиях и художественной литературе; сценическое амплуа в эпоху дорежиссёрского театра.
Средства производства — совокупность средств труда и предметов труда.

Аборигены — народы, которые обитали на определённых землях до прихода туда переселенцев из других мест.

Расизм — совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру.

Шарпей — порода сторожевых и охотничьих, а в древности и бойцовых собак родом из Китая, одна из древнейших пород.

Совесть — психический процесс, вызывающий эмоции и рациональные ассоциации, основанные на моральной философии или системе ценностей личности.

Судьба — совокупность всех событий и обстоятельств, которые якобы предопределены и в первую очередь влияют на бытие человека, народа и т.п.; предопределённость событий, поступков; рок, фатум, доля; высшая сила, которая может мыслиться в виде природы или божества; древние греки персонифицировали судьбу в виде: Мойр, Тиха, Ате, Адрастеи, Хеймармене, Ананке; древние римляне — в виде Парки; слово, часто встречающееся в биографических текстах.

Всеобщая декларация прав человека
Всеобщая декларация прав человека — рекомендованный для всех стран — членов ООН документ, принятый на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А от 10 декабря 1948.

Декларация — заявление.

Конституция — основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу.

Eugene Repin. The Reason For the Weakness of the Social Sciences
The joke that science is divided into natural and unnatural is no longer a joke. The low level of social sciences is widely recognized.
Don’t Take a Quarter To the Store
An ingenious it’s always simple. The our breath has intercepted when we have realized a simple and fast way of Russian revival. This inspiration has come, when we read interview with A. I. Trauter, the General Director of the Kemerovo Regional Hospital Cash Department. It isn’t interview it’s a theorem! The theorem incontestably proving, that insurance medicine will create a miracle with our public health services.
Eugene Repin About Accounting
An accounting is the account of capital. Each is useful to know, comes its capital or decreases. In other words, the profit or loss from him, he is rich or poorer.
Доцент — учёное звание и должность преподавателей высших учебных заведений, выполняющих функцию университетских лекторов или другую педагогическую работу сопоставимого уровня; также наименование должности в высших учебных заведениях.

Биполярное расстройство — маниакально-депрессивный психоз, МДП; первоначально — циркулярный психоз; также называлось циклофренией — эндогенное психическое расстройство, проявляющееся в виде аффективных состояний: маниакальных и депрессивных, а иногда и смешанных состояний.

Электросварка — один из способов сварки, использующий для нагрева и расплавления металла электрическую дугу.

Фейк-ньюс — это информационная мистификация или намеренное распространение мизинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду.

Несмотря на то, что конспирология в буквальном переводе означает наука о заговорах, тем не менее, научный её статус более чем сомнителен.

Земля Израильская — исторический термин и понятие в иудаизме и христианстве, относящееся к региону, сегодня наиболее тесно связанному с Государством Израиль, на протяжении всей истории, начиная от библейских времён до наших дней.

Пресс-конференция — мероприятие для СМИ, проводимое в случаях, когда есть общественно значимая новость или любой другой повод, и организация или отдельная личность, непосредственно связанные с этой новостью или поводом, желают дать свои комментарии по этому вопросу.

Кузнечиковые — надсемейство прямокрылых насекомых подотряда длинноусых с единственным современным одноименным семейством.

Peter Lukimson. Lying As an Exact Science
How completely wild conspiracy theories are built on the basis of absolutely reliable facts.
Spectroscopy is the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation as a function of the wavelength or frequency of the radiation.

Imaging is the analytical capability to create a visual image of components distribution from simultaneous measurement of spectra and spatial, time information.

Medical ultrasound is a diagnostic imaging technique, or therapeutic application of ultrasound. It is used to create an image of internal body structures such as tendons, muscles, joints, blood vessels, and internal organs.

Photoacoustic imaging is a biomedical imaging modality based on the photoacoustic effect. In photoacoustic imaging, non-ionizing laser pulses are delivered into biological tissues.

Modality, a type of equipment used to acquire structural or functional images of the body, such as radiography, ultrasound, nuclear medicine, computed tomography, magnetic resonance imaging and visible light.

Faraday wave named after Michael Faraday, are nonlinear standing waves that appear on liquids enclosed by a vibrating receptacle.

Brillouin spectroscopy is an empirical spectroscopy technique which allows the determination of elastic moduli of materials.

A virus is a submicroscopic infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism.

A nerve is an enclosed, cable-like bundle of nerve fibres called axons, in the peripheral nervous system.

Predation is a biological interaction where one organism, the predator, kills and eats another organism, its prey.

Glia, also called glial cells or neuroglia, are non-neuronal cells in the central nervous system and the peripheral nervous system that do not produce electrical impulses.

An axon, or nerve fiber, is a long, slender projection of a nerve cell, or neuron, in vertebrates, that typically conducts electrical impulses known as action potentials away from the nerve cell body.

Myelin is a lipid-rich substance that surrounds nerve cell axons to insulate them and increase the rate at which electrical impulses are passed along the axon.

Michael Faraday was an English scientist who contributed to the study of electromagnetism and electrochemistry.

Eigenfrequency are the natural frequencies (or eigenfrequencies) of vibration, and the eigenvectors are the shapes of these vibrational modes.

A parametric oscillator is a driven harmonic oscillator in which the oscillations are driven by varying some parameter of the system at some frequency, typically different from the natural frequency of the oscillator.

In physics and engineering, fluid dynamics is a subdiscipline of fluid mechanics that describes the flow of fluids — liquids and gases.

A metamaterial is any material engineered to have a property that is not found in naturally occurring materials.

Biology is the natural science that studies life and living organisms, including their physical structure, chemical processes, molecular interactions, physiological mechanisms, development and evolution.

Australia is a sovereign country comprising the mainland of the Australian continent, the island of Tasmania, and numerous smaller islands.

Eisenia fetida, known under various common names such as redworm, brandling worm, panfish worm, trout worm, tiger worm, red wiggler worm, etc., is a species of earthworm adapted to decaying organic material.

Audacity is a free and open-source digital audio editor and recording application software, available for Windows, macOS, Linux, and other Unix-like operating systems.

An approximation is anything that is intentionally similar but not exactly equal to something else.

In mathematics, a Fourier transform is a mathematical transform that decomposes a function into its constituent frequencies, such as the expression of a musical chord in terms of the volumes and frequencies of its constituent notes.

GNU Octave is software featuring a high-level programming language, primarily intended for numerical computations.

Polytetrafluoroethylene is a synthetic fluoropolymer of tetrafluoroethylene that has numerous applications.

An oscilloscope, previously called an oscillograph, and informally known as a scope or o-scope, CRO, or DSO, is a type of electronic test instrument that graphically displays varying signal voltages, usually as a calibrated two-dimensional plot of one or more signals as a function of time.

A spectrum is a condition or value that is not limited to a specific set of values but can vary infinitely within a continuum.

In the physics of coupled oscillators, antiresonance, by analogy with resonance, is a pronounced minimum in the amplitude of an oscillator at a particular frequency, accompanied by a large, abrupt shift in its oscillation phase.

Bifurcation theory is the mathematical study of changes in the qualitative or topological structure of a given family, such as the integral curves of a family of vector fields, and the solutions of a family of differential equations.

Hydrostatics is the branch of fluid mechanics that studies fluids at rest and the pressure in a fluid or exerted by a fluid on an immersed body.

A subwoofer is a loudspeaker designed to reproduce low-pitched audio frequencies known as bass and sub-bass, lower in frequency than those which can be generated by a woofer.

Canola oil is a vegetable oil derived from a variety of rapeseed that is low in erucic acid, as opposed to colza oil.

A capillary wave is a wave traveling along the phase boundary of a fluid, whose dynamics and phase velocity are dominated by the effects of surface tension.

Newtonian fluid is a fluid in which the viscous stresses arising from its flow, at every point, are linearly correlated to the local strain rate—the rate of change of its deformation over time.

Maxwell model is a viscoelastic material having the properties both of elasticity and viscosity.

Linear elasticity is a mathematical model of how solid objects deform and become internally stressed due to prescribed loading conditions.

Damping is an influence within or upon an oscillatory system that has the effect of reducing, restricting or preventing its oscillations.

Young’s modulus or the modulus of elasticity in tension, is a mechanical property that measures the tensile stiffness of a solid material.

A cylinder has traditionally been a three-dimensional solid, one of the most basic of curvilinear geometric shapes.

In vector calculus, the Jacobian matrix of a vector-valued function in several variables is the matrix of all its first-order partial derivatives.

In mathematics, Mathieu functions, sometimes called angular Mathieu functions, are solutions of Mathieu’s differential equation ![]() , where α and q are parameters.
, where α and q are parameters.

Bessel functions, first defined by the mathematician Daniel Bernoulli and then generalized by Friedrich Bessel, are canonical solutions y(x) of Bessel’s differential equation ![]() .
.

Spectral range. Electromagnetic waves are typically described by any of the following three physical properties: the frequency f, wavelength λ, or photon energy E.

A laser Doppler vibrometer is a scientific instrument that is used to make non-contact vibration measurements of a surface.

FFmpeg is a free and open-source software project consisting of a large suite of libraries and programs for handling video, audio, and other multimedia files and streams.

ARC is one of the Australian government’s two main agencies for competitively allocating research funding to academics and researchers at Australian universities.

И.С. Максимов, А. Потоцкий. Возбуждение фарадеевских объемных волн у вибрирующих живых дождевых червей
Biological cells and many living organisms are mostly made of liquids and therefore, by analogy with liquid drops, they should exhibit a range of fundamental nonlinear phenomena such as the onset of standing surface waves. Here, we test four common species of earthworm to demonstrate that vertical vibration of living worms lying horizontally on a flat solid surface results in the onset of subharmonic Faraday-like body waves, which is possible because earthworms have a hydrostatic skeleton with a flexible skin and a liquid-filled body cavity. Our findings are supported by theoretical analysis based on a model of parametrically excited vibrations in liquid-filled elastic cylinders using material parameters of the worm’s body reported in the literature. The ability to excite nonlinear subharmonic body waves in a living organism could be used to probe, and potentially to control, important biophysical processes such as the propagation of nerve impulses, thereby opening up avenues for addressing biological questions of fundamental impact.
V.S. Fineberg. New Сhromatography Мethod
We have developed a new rapid method for the analysis of complex mixtures of organic substances, which treats as a separating agent used pants.
Хроматогра́фия — метод разделения и анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ.

Адсорбенты — высокодисперсные природные или искусственные материалы с большой удельной поверхностью, на которой происходит адсорбция веществ из соприкасающихся с ней газов или жидкостей.

Метод тыка является врождённым эмпирическим методом мышления человека.

Детерминизм — учение о взаимосвязи и взаимной определённости всех явлений и процессов, доктрина о всеобщей причинности.

Принцип — постулат, утверждение, на основе которого создают научные теории и законы, юридические документы, выбирают нормы поведения в обществе.

Линза — деталь из прозрачного однородного материала, имеющая две преломляющие полированные поверхности, например, обе сферические; или одну — плоскую, а другую — сферическую.

Политика — деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, а также вопросы и события общественной жизни, связанные с функционированием государства.

Бессознательное — совокупность психических процессов и явлений, не входящих в сферу сознания субъекта, т.е. в отношении которых отсутствует контроль сознания.

Ye. Reitblatt. Eureka was born a daughter Eurenomics
We need to create a new science that would study heuristic-psychic determinism of human behavior. I give the child a name Eurenomics.
Slava Baransky. Whiskey Rule
The essence of the rule is that whoever is late for the agreed number of minutes must have a bottle of whiskey.
Информация — сведения независимо от формы их представления.

Меметика — теория содержания сознания и эволюции культуры, построенная по аналогии с генетикой и биологической теорией эволюции Дарвина и берущая начало из концепции мема, предложенной биологом Ричардом Докинзом в книге Эгоистичный ген.

Кукрыниксы — творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев, в который входили действительные члены АХ СССР, народные художники СССР, Герои Социалистического Труда Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов.

Михаил Сергеевич Горбачев — советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель.

Президе́нт Росси́йской Федера́ции — высшая государственная должность Российской Федерации, а также лицо, избранное на эту должность.

Интернетчик — человек или виртуальное лицо, являющееся пользователем Интернета и рассматривающее себя как гражданина интернет-общества.

Гаджет — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни, непременный атрибут хипстера.

Сергей Леонидович Шолохов — советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель.

Сергей Анатольевич Курехин — советский и российский музыкант-авангардист, композитор, киносценарист и актёр.

Пятый канал — общероссийский федеральный телеканал с центром вещания из Санкт-Петербурга, старейший из всех телеканалов.

Хвост — у большинства рыб хвост не резко обособлен от туловища и снабжён плавником — основным органом передвижения.

Chionoecetes volodicus — род ракообразных, обитающий в северной части Тихого и Атлантического океанов.

Владимир Семенович Высоцкий — советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений и сценариев.

Интернет-мем — информация в той или иной форме, как правило, остроумная и ироническая, спонтанно приобретающая популярность, распространяясь в Интернете разнообразными способами.

Agnia Ogonek, Eugene Lubyanitsky. The Memes Origin
A cultural information consists of memes, like biological information consisting of genes. Like genes, memes are the same as and humanity. In addition, the spread of memes scientists compares with the spread of genes and characterized by the same qualities.
Прести́ж — драматический триллер режиссёра Кристофера Нолана 2006, экранизация одноимённой фантастической драмы Кристофера Приста, написанной в 1995.

Нейролингвистическое программирование — псевдонаучный подход к межличностному общению, развитию личности и психотерапии.

Андрей Анатольевич Плигин — российский психолог, тренер, бизнес-консультант и учёный, автор образовательной концепции и технологии, основанной на развитии познавательных стратегий, автор научной концепции психологической помощи Системное формирование жизненного пути личности, специалист в области педагогической психологии, клинической психологии и психологии организационного развития.

Паттерн — схема-образ, действующая как посредствующее представление, или чувственное понятие, благодаря которому в режиме одновременности восприятия и мышления выявляются закономерности, как они существуют в природе и обществе.

Мозговой штурм — оперативный метод решения задач, в котором участники обсуждения генерируют максимальное количество решений задачи, в том числе самые фантастические и глупые.

КВН — телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и тому подобного.

Михаил Николаевич Задорнов — советский и российский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр, также известен как автор гипотез в области этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критикуются и не признаются научным сообществом.

Эксперимент — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.

Вода́ — бинарное неорганическое соединение с химической формулой H2O: молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного — кислорода, которые соединены между собой ковалентной связью.

Коло́дец — гидротехническое сооружение для добывания грунтовых вод, обычно представляющее собой вертикальное углубление с укреплёнными стенками и механизм подъёма воды на поверхность

Жажда — физиологическое ощущение, относящееся к разряду общих чувств и служащее сигналом того, что организм нуждается в воде.

Ведро — сосуд для хранения жидких и сыпучих материалов и транспортировки их на небольшие расстояния.

Иван Андреевич Ургант — российский актёр, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, музыкант, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр.

Штирлиц — литературный персонаж, герой многих произведений советского писателя Юлиана Семёнова, штандартенфюрер СС, советский разведчик-нелегал, работавший в интересах СССР в нацистской Германии и некоторых других странах.

Василий Иванович Чапаев — участник Первой мировой и Гражданской войн, начальник дивизии Красной армии.

Поручик Ржевский — популярный в СССР, затем в России и других странах СНГ литературный, кинематографический, театральный и юмористический персонаж.

Блондинка является героиней анекдотов, в которых она выступает особой с чрезвычайно ограниченным кругом интересов и низким уровнем интеллектуального развития.

Калория — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19.5 до 20.5 градусов Цельсия.

Овощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп, грибов, орехов и съедобных водорослей.

Речения с Лазурного утеса — сборник дзэнских коанов, которые излагают знания и опыт китайских мастеров чань.

Контекст — термин, широко используемый в ряде гуманитарных наук, прямо или косвенно изучающих язык и общение.

Дед Мороз — главный сказочный персонаж на празднике Нового года, советский вариант рождественского дарителя.

Улица Строителей — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Астрология — группа описательных и предсказательных практик, традиций и верований, постулирующих воздействие небесных тел на земной мир и человека и, в частности, возможность предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на небесной сфере и относительно друг друга.

Окно — специально задуманная в конструкции здания архитектурная деталь строительства: проём в стене, служащий для поступления света в помещение и/или вентиляции.

Телескоп — прибор, с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения.

Калейдоскоп — оптический прибор-игрушка, чаще всего в виде трубки, содержащей внутри три продольных, сложенных под углом зеркальных стеклышек; при поворачивании трубки вокруг продольной оси цветные элементы, находящиеся в освещённой полости за зеркалами, многократно отражаются и создают меняющиеся симметричные узоры.

Artyom Arakcheyev. Сlimbing to the heights of humor and joke
It’s curious that humor is one of the most favorite techniques of professional communicators. The best speakers know that they are forced to joke, otherwise the audience will fall into hibernation, like the mayor after the election.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной системы; масса планеты составляет 10,7% массы Земли.

Британские учёные — интернет-мем, персонаж русского интернет-фольклора.

Свиньи — семейство парнокопытных из подотряда свинообразных, включающее 8 видов, в том числе единственного европейского представителя семейства — дикого кабана, который является прародителем домашней свиньи.

Микробы — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Фестиваль — массовое празднество, показ достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

Кингстон-на-Халле — мгород и унитарная единица в Англии, в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.

Англия — страна, являющаяся крупнейшей административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Джетлаг — синдром смены часового пояса, десинхрония/десинхроноз — рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелёте.

Металлолом — общее, собирательное название различного металлического мусора, утилизируемого или не утилизируемого во вторичном металлургическом цикле.

Планета — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Наушники — два телефона с оголовьем, предназначенные для подключения к бытовым радиоэлектронным аппаратам.

Космическая медицина — совокупность медицинских наук, занимающиеся медицинскими, биологическими, инженерными и другими научными исследованиями, целью которых является обеспечение безопасности и оптимальных условий существования человека при пилотируемом космическом полёте или в открытом космосе.

Деменция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Эра — начальный момент летоисчисления, например: христианская эра, мусульманская эра, эра Диоклетиана, эра Селевкидов, эра от основания Рима и т.д.

Вакцина — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

Викинги — раннесредневековые скандинавские мореходы в VIII — XI веках, совершавшие морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.

Вулкан — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступало ранее.

Воздух — смесь газов, главным образом азота и кислорода, а также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.

Искусственный интеллект — свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека; наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ.

Черная дыра — область пространства — времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Альберт Эйнштейн — физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921, общественный деятель-гуманист.

Теория относительности — физическая теория пространства-времени, то есть теория, описывающая универсальные пространственно-временные свойства физических процессов.

Гравитация — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

Предел статичности — гиперповерхность вокруг вращающейся чёрной дыры, представляющая собой границу области, внутри которой любое тело уже не может находиться в состоянии покоя относительно удаленного наблюдателя. Чтобы удержаться от падения на поверхность горизонта событий, тело, находящееся под поверхностью статического предела, должно вращаться с положительной угловой скоростью вокруг чёрной дыры.

Горизонт событий — это граница, за которой события не могут повлиять на наблюдателя.

Точка сингулярности — точка, в которой математический объект не определён или имеет нерегулярное поведение.

Nikolai Voronin. These Funny British Scientists or Notes from the British Science Festival
It is not surprising that the very phrase British scientists has long become a meme, synonymous with absurdity.
Inverse square law is any scientific law stating that a specified physical quantity is inversely proportional to the square of the distance from the source of that physical quantity.

Sound intensity is defined as the power carried by sound waves per unit area in a direction perpendicular to that area.

Exponential function is a function of the form f(x) = abx where b is a positive real number, and the argument x occurs as an exponent.

Arithmetic is a branch of mathematics that consists of the study of numbers, especially the properties of the traditional operations on them—addition, subtraction, multiplication, division, exponentiation and extraction of roots.

Construction is a general term meaning the art and science to form objects, systems, or organizations, and comes from Latin constructio and Old French construction.

Engineering is the use of scientific principles to design and build machines, structures, and other items, including bridges, tunnels, roads, vehicles, and buildings.

Surveying or land surveying is the technique, profession, art, and science of determining the terrestrial or three-dimensional positions of points and the distances and angles between them.

A design is a plan or specification for the construction of an object or system or for the implementation of an activity or process, or the result of that plan or specification in the form of a prototype, product or process.

Manufacturing is the production of goods through the use of labor, machines, tools, and chemical or biological processing or formulation.

Советская власть. После победы вооружённого восстания, 25 октября 1917 в Петрограде открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, решением которого власть в стране перешла к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Homo Soveticus — критическое и ироническое название советского человека.

Совок — пейоративное название Советского Союза, советского человека и советской действительности в целом.

Гарвардский проект — политико-социологическое исследование советского общества, проведённое образованным в 1948 году Центром русских исследований Гарвардского университета в начале 1950-х при финансировании ВВС США.

ВЦИОМ — старейшая российская исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения.

Антропология — совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной и культурной средах.

Михаил Афанасьевич Булгаков — русский писатель советского периода, драматург, театральный режиссёр и актёр.

Полиграф Полиграфович Шариков — персонаж повести Михаила Булгакова Собачье сердце, начальник подотдела очистки Москвы от бродячих животных.

Антропный принцип — аргумент Мы видим Вселенную такой, потому что только в такой Вселенной мог возникнуть наблюдатель, человек.

Рынок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен между покупателями и продавцами отдельными товарами и услугами.

Потребление — использование продукта в процессе удовлетворения потребностей.

Геннадий Андреевич Зюганов — советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий — КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ.

Фундамент — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию.

Социум — человеческая общность, специфику которой представляют отношения людей между собой, их формы взаимодействия и объединения.

Антимайдан — в 2013 — 2014 серия митингов на Украине, по большей части в Киеве, городах Восточной и Южной Украины, преимущественно в противовес идеям Евромайдана.

Совет Федерации — верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации — парламента Российской Федерации.

The Bandidos Motorcycle Club, also known as the Bandido Nation, is a one percenter motorcycle club with a worldwide membership.

Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная система органов, в задачу которой входит осуществление от имени Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на её территории.

Оранжевая революция — широкая кампания мирных протестов, митингов, пикетов, забастовок, которая происходила в ряде городов Украины, с 22 ноября 2004 по 23 января 2005.

Государственный департамент США — федеральный орган исполнительной власти при правительстве США, который консультирует президента и поддерживает международные отношения, выполняющий функцию министерства иностранных дел.

Дмитрий Вадимович Саблин — российский политик. Депутат Государственной думы четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов.

Николай Викторович Стариков — российский общественный и политический деятель, писатель, публицист, блогер.

Ночные волки — существующий с 1989 первый официальный в СССР байкерский клуб, существующий и поныне в России как зарегистрированная в 1995 общественная некоммерческая организация Русские мотоциклисты.

Берлин — столица и крупнейший город Германии, первый по населению и четвёртый по площади город Евросоюза.

Клуб — место встречи людей с едиными интересами, зачастую официально объединённых в сообщество, организацию или ассоциацию.

Поэзия — особый способ организации речи; привнесение в речь дополнительной меры, не определённой потребностями обыденного языка; словесное художественное творчество, преимущественно стихотворное.

Оружие — название устройств и предметов, конструктивно предназначенных для поражения живой или иной цели.

Торговля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.

Крышевание — обеспечение защиты бизнеса, в том числе незаконного, со стороны государственных, правоохранительных или криминальных структур за вознаграждение на постоянной основе.

Азартная игра — игра с целью выигрыша денег или иных материальных ценностей, в которой выигрыш полностью или в значительной степени зависит не от навыка играющих, а от случая, а главный интерес направлен не на процесс игры, а на её исход.

Путинизм — термин, описывающий всю совокупность социально-экономического и политического устройства России первых десятилетий XXI века, сложившегося при режиме конкурентного авторитаризма Владимира Путина.

Московский метрополитен — рельсовый внеуличный городской общественный транспорт на электрической тяге, находящийся в Москве и частично в Московской области.

Лайк — функция в коммуникационном программном обеспечении, предназначенном для социальных сетей, блогов, интернет-форумов, сервисов социальных закладок, новостных сайтов, которая используется для выражения отношения пользователей к тому или иному контенту.

Платформа — объект обустройства железнодорожных линий на железнодорожных станциях и станциях метрополитена для посадки и высадки пассажиров.

Поезд — сформированный и сцеплённый состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы, которые обозначают его голову и хвост.

Пресс-служба — подразделение организации, госучреждения или органа власти, осуществляющее взаимодействие данной структуры с прессой и прочими СМИ.

Элита — совокупность людей, занимающих высокие руководящие должности в управлении государством, союзом государств и экономике.

Местный бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

Селфи — разновидность автопортрета, созданного с помощью фотоаппарата, иногда при помощи зеркала, монопода или автоспуска.

Железный занавес — политическое клише, введённое в активное обращение У. Черчиллем 5 марта 1946 в его Фултонской речи и ознаменовавшее начало холодной войны.

Колониализм — система господства группы развитых государств и стран над остальным миром в XVI — XX веках.

Ад в представлении религий, мифологий и верований — ужасное, чаще посмертное место наказания грешников, испытывающих в нём муки и страдания.

Министерство государственной безопасности СССР — центральныq орган государственной власти СССР, ведавшиq вопросами государственной безопасности в феврале — июле 1941 и в 1943 — 1953.

Новочеркасский расстрел — название исторических событий, произошедших в городе Новочеркасск Ростовской области РСФСР 1 – 3 июня 1962 в результате забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода им. С.М. Будённого и других горожан в ответ на повышение цен.

Танк — бронированная боевая машина, чаще всего на гусеничном ходу, как правило с пушечным и дополнительным пулемётным вооружением, обычно во вращающейся полноповоротной башне, предназначенной в основном для стрельбы прямой наводкой.

Вася Ложкин — российский художник, дизайнер и блогер, музыкант, основатель музыкального коллектива Эбонитовый колотун, лидер группы Вася Ложкин и какие-то люди.

Кристофер Уанамейкер. Котоматематика: Мяуканье, рост популяции и котогеометрия
Это серия, в которой я совмещаю любимое существо Интернета с языком вселенной. Да, верно, кошки и математика вместе взятые.
Igor Yakovenko. Homo putinus
For several decades, the Soviet government was able to raise a special type of person, Homo sovieticus. Much has been written about its characteristics, large-scale studies have been carried out, the most significant he American Harvard Project and the All-Russian Center for Public Opinion Research’s Soviet Man — have made it possible to understand a lot about this anthropological phenomenon.
Гопники — представители неформальной прослойки населения с низким социальным статусом, малообразованного и не имеющего моральных ценностей контингента, часто происходящего из неблагополучных семей, и объединяющегося по признакам контркультуры, ради поиска самоутверждения криминальными, деструктивными и прочими скверными путями по отношению к тем, чьё превосходство они испытывают над собой, из-за наличия у них более высокого социального статуса, чем у гопников.

Таксономия — учение о принципах и практике классификации и систематизации сложноорганизованных иерархически соотносящихся сущностей.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай — русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.

Папуасы — древнейшее население острова Новая Гвинея и некоторых других островов Меланезии и Индонезии.

Этология — полевая дисциплина зоологии, изучающая генетически обусловленное поведение животных, а также составные части инстинктивного поведения оставшиеся у людей.

In vitro — это технология выполнения экспериментов, когда опыты проводятся «в пробирке» — вне живого организма.

Чезаре Ломброзо — итальянский психиатр, преподаватель, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирождённом преступнике.

Homo sapiens sapiens — в палеоантропологии относится к отдельным членам вида Homo sapiens с внешностью, соответствующей совокупности фенотипов современного человека, в противопоставление вымершим видам рода Homo.

Область Вернике — часть коры головного мозга, которую, как и область Брока, с конца XIX века связывают с речью.

Височная доля — образование коры больших полушарий, отделенное латеральной бороздой головного мозга от теменной и лобной долей и расположенное перед затылочной долей.

Слова-паразиты — слова, которые отражают не столько отношения между элементами описываемого в высказывании фрагмента действительности, сколько отношения между элементами структуры диалога или монолога, т.е. не несущие смысловой нагрузки слова, характерные для спонтанной, неподготовленной речи.

Гиперфункция — усиленная по сравнению с нормой жизнедеятельность органа или системы биологического организма.

Трепанация черепа — хирургическая операция образования отверстия в костной ткани черепа с целью доступа к подлежащей полости.

Близнецы — два или более потомка, рождённых в результате одной беременности через непродолжительное время друг за другом, у человека и тех млекопитающих, самки которых обычно рождают одного детёныша.

Междометие — лексико-грамматический класс неизменяемых слов, не входящих ни в знаменательные, ни в служебные части речи и нерасчленённо выражающих эмоциональные и эмоционально-волевые реакции на окружающую действительность.

Ненормативная лексика — табуированная лексика, которую говорящие воспринимают как отталкивающую, непристойную.

Гринпис — международная независимая неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 в Канаде.

Междунаролный союз охраны природы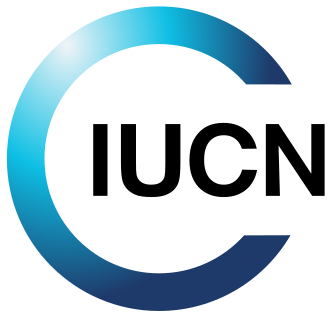
Междунаролный союз охраны природы — международная некоммерческая организация, занимающаяся освещением проблем сохранения биоразнообразия планеты, представляет новости, конгрессы, проходящие в разных странах, списки видов, нуждающихся в особой охране в разных регионах планеты.

Включённое наблюдение — качественный метод исследования, который позволяет проводить полевое изучение индивидов в их естественной среде и в повседневных жизненных обстоятельствах, то есть изучение социальной группы изнутри.

Дистальный — дальний по ходу анатомических образований от центра тела.

Гомологичными в биологии называются части сравниваемых организмов, имеющие общее происхождение.

Голова — часть тела животного или человека, в которой находятся мозг, органы зрения, вкуса, обоняния, слуха и рот.

Иммунитет — способность организма поддерживать свою и биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Скелет человека — совокупность костей человеческого организма, пассивная часть опорно-двигательного аппарата.

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

Лобная чешуя имеет в нижней части срединной линии небольшое возвышение, соответствующее остаткам лобного шва, который в детстве разделял лобную кость надвое.

Гипоплазия зубов — порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей в период их формирования.

Harris lines, are lines of increased bone density that represent the position of the growth plate at the time of insult to the organism and formed on long bones due to growth arrest.

Трубчатые кости — кости цилиндрической или трёхгранной формы, длина которых преобладает над шириной.внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.

Анемия — состояние, для которого характерно уменьшение количества эритроцитов и снижение содержания гемоглобина в единице объема крови.

Лобная кость — непарная кость мозгового отдела черепа; участвует в образовании переднего отдела свода черепа и передней черепной ямки его основания.

Цитрусовые — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые, входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые.

Казаки — представители казачества — специфической этно-социальной общности, сформировавшейся в рамках особого, служилого сословия на территории современных Австрии, Казахстана, Польши, России, Украины, Хорватии, Чехии.

Скуловая дуга — часть лицевого черепа, которая образована соединенными височным отростком скуловой кости и скуловым отростком височной кости; является местом прикрепления височной фасции и жевательной мышцы.

Носовая кость — парная, четырёхугольная, немного удлиненная и — несколько выпуклая спереди кость лицевой части черепа.

Кулачный бой — ранняя форма развития единоборств и одновременно форма увеселения публики наряду с иными состязаниями.

Сидение на корточках — поза, при которой человек сидит, не имея опоры под ягодицами, согнув колени и опираясь на стопы.

Тазобедренный сустав — чашеобразный, многоосный сустав, образованный полулунной поверхностью вертлужной впадины тазовой кости и суставной поверхностью головки бедренной кости.

Голеностопный сустав — подвижное соединение большеберцовой, малоберцовой и таранной костей человека.

Большеберцовая кость — крупная, расположенная медиально кость голени, вторая по размерам кость в теле человека, наиболее толстая часть голени.

Фасеточный синдром — синдром, при котором дугоотростчатые суставы вызывают боли в спине.

Костный эпифиз — закруглённый, чаще расширенный, концевой отдел трубчатой кости, формирующий сустав со смежной костью посредством сочленения их суставных поверхностей.

Таранная кость — одна из костей предплюсны, формирующая нижнюю часть голеностопного сустава посредством соединения с больше- и малоберцовой костями.

Кровеносные сосуды — эластичные трубчатые образования в теле животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

Курение — вдыхание дыма препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

Электронный микроскоп — прибор, позволяющий получать изображение объектов с максимальным увеличением до 106 раз, благодаря использованию, в отличие от оптического микроскопа, вместо светового потока, пучка электронов с энергиями 200 эВ — 400 кэВ и более.

Образование — система воспитания и обучения личности, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, функций, опыта деятельности и компетенций.

Периостит — воспаление надкостницы; применительно к челюсти периостит часто называют флюсом и выражается в опухании десны, сопровождающемся сильной болью.

Плоскостопие — изменение формы стопы, характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.

Кеды — спортивная обувь, эпоним от торговой марки Keds, запущенной американской фирмой U.S. Rubber в 1916.

Проксимальные фаланги — короткие трубчатые кости, образующие скелет пальцев конечностей позвоночных животных, в том числе человека.

Калан — хищное морское млекопитающее семейства куньих, вид, входящий вместе с выдрами в семейство куньих.

Человек прямоходящий — ископаемый вид людей, который рассматривают как непосредственного предка современных людей.

Алкогольдегидрогеназа — фермент класса дегидрогеназ, катализирующий окисление спиртов и ацеталей до альдегидов и кетонов в присутствии никотинамидадениндинуклеотида.

Ацетальдегиддегидрогеназа — фермент, находящийся в печени человека и катализирующий окисление ацетальдегида СH3СHO до уксусной кислоты CH3COOH.

Stanislav Drobyshevsky. Punks Anatomy
The humanity is diverse. Among its derivatives is found a special type of inherent, apparently, for all times and peoples, known in the scientific community as Homo sapiens vulgaris.
Ева — в авраамических религиях — праматерь всех людей, первая женщина, жена Адама, созданная из его ребра, мать Каина, Авеля и Сифа.

Райское яблоко — плод мифологического Древа познания Добра и Зла в христианской традиции.

Талмуд — свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма, охватывающий Мишну и Гемару в их единстве; уникальное произведение, включающее дискуссии, которые велись на протяжении около восьми столетий законоучителями Эрец-Исраэль и Вавилонии и привели к фиксации Устной Торы.

Спойлер — преждевременно раскрытая важная сюжетная информация, которая разрушает задуманную авторами интригу, не даёт её пережить самостоятельно и, следовательно, лишает читателя/зрителя/игрока некоторой части удовольствия от этого сюжета, чем портит впечатление от него.

Пшеница — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые, ведущая зерновая культура во многих странах.

Суккот — один из основных танахических праздников еврейского народа и один из трёх паломнических праздников, начинается 15 числа месяца тишрей и продолжается семь дней.

Яблоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Ближний Восток — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

Казахстан — государство в центре Евразии, бо́льшая часть которого относится к Азии, меньшая — к Европе.

Nature Communications — рецензируемый научный журнал с открытым доступом, который издается компанией Nature Research с 2010.

Интерпретация — разъяснение, истолкование.

Иероним Стридонский — иллирийский церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии.

Эквивалент — нечто равноценное или соответствующее в каком-либо отношении чему-либо, заменяющее его или служащее его выражением.

Британская энциклопедия — британо-американская универсальная энциклопедия, старейшая англоязычная универсальная энциклопедия.

Иврит — язык семитской семьи; государственный язык Израиля; язык некоторых еврейских общин и диаспор.

Уппсальский университет — старейший университет Швеции и всей Скандинавии, основан в 1477, находится в шведском городе Уппсала.

Гентский алтарь — церковный створчатый алтарь в католическом кафедральном соборе Святого Бавона в бельгийском городе Гент.

Абрикос — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного, но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus: маньчжурского абрикоса, японского абрикоса, сибирского абрикоса, бриансонского абрикоса и т.д.

NPR — крупнейшая некоммерческая организация, которая собирает и затем распространяет новости с 797 радиостанций США.

Альбрехт Дюрер — немецкий живописец, гравёр и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса.

Лукас Кранах — немецкий живописец и график эпохи Ренессанса, мастер живописных и графических портретов, жанровых и библейских композиций, синтезировавший в своём творчестве готические традиции с художественными принципами Возрождения.

Ashley P. Taylor. Was the forbidden fruit in the Garden of Eden really an apple?
What’s the likely identity of the forbidden fruit described in the Bible’s Garden of Eden, which Eve is said to have eaten and then shared with Adam?
If your guess is «apple,» you’re probably wrong.
The Hebrew Bible doesn’t actually specify what type of fruit Adam and Eve ate. We don’t know what it was. There’s no indication it was an apple,» Rabbi Ari Zivotofsky, a professor of brain science at Israel’s Bar-Ilan University, told Live Science.
Теодор Бильрот — выдающийся немецкий хирург, один из основоположников современной абдоминальной хирургии.

Щитовидная железа — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодсодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин и трийодтиронин.

Холестерин — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека, однако его нет в клеточных мембранах растений, грибов, а также у прокариотических организмов.

Атеросклероз — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеидов в просвете сосудов.

Артерия — кровеносный сосуд, несущий кровь от сердца к органам, в отличие от вен, в которых кровь движется к сердцу.

Гормоны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Дуайт Дэвид Эйзенхауэр — американский государственный и военный деятель, генерал армии, 34-й президент США.

Миокард — мышечная ткань сердечного типа, основным гистологическим элементом которой является кардиомиоцит; соответствует среднему слою сердца и формирует толщу стенок желудочков и предсердий.

Животные жиры — природные жиры, извлекаемые из соединительных тканей, а также молока и яиц, позвоночных животных.

Paul Dudley White, American physician and cardiologist, was born in Roxbury, Massachusetts, the son of Herbert Warren White and Elizabeth Abigail Dudley.
Broda Otto Barnes was an American physician and professor of medicine who studied endocrine dysfunction, particularly hypothyroidism.

Рудольф Людвиг Карл Вирхов — немецкий учёный и политический деятель второй половины XIX столетия, врач, патологоанатом, гистолог, физиолог, один из основоположников клеточной теории в биологии и медицине, основоположник теории клеточной патологии в медицине; был известен также как археолог, антрополог, палеонтолог и политик-демократ.

Глюкоза — органическое соединение, моносахарид, гексоза, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах на планете.

Инсулин — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

Миф — повествование, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях и предполагающее приоритет режима одновременности восприятия и мышления.

Половые гормоны — гормоны, обеспечивающие развитие и функционирование имеющих признаки биологического пола живых организмов по мужскому или женскому типу, что полностью проявляется с наступлением половой зрелости, достигаемой в завершении периода полового созревания.

Надпочечники — парные эндокринные железы, расположенные над верхней частью почек позвоночных животных и человека.

Жизнедеятельность — совокупность процессов, протекающих в живом организме, служащих поддержанию в нём жизни и являющихся проявлениями жизни.

Антиоксиданты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Сексуальные дисфункции — расстройства основных проявлений сексуальности и сексуальные болевые расстройства.

Память — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

Инсульт — острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Огнестрельное оружие — оружие дальнего и ближнего боя, в котором для разгона и выбрасывания снаряда из канала ствола используется сила давления газов, образующихся при сгорании метательного взрывчатого вещества (пороха) или специальных горючих смесей.

Массовое убийство — убийство большого количества людей, осуществлённое почти одновременно или за короткий промежуток времени.

Седина — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70% меланина в пигментации.

Яичный белок содержит в среднем: 85,7% воды, 12,7% белков, 0,3% жиров, 0,7% углеводов, 0,6% минеральных веществ, глюкозу, ферменты, витамины группы В.

На долю яичного желтка приходится до 33% жидкого содержания яйца.

Оружейный салют — церемониальная стрельба холостыми зарядами из артиллерийских орудий или стрелкового оружия.

Southern Methodist University is a private research university in University Park, Dallas County, Texas with a satellite campus in Taos, New Mexico.

Entropy is a scientific concept, as well as a measurable physical property that is most commonly associated with a state of disorder, randomness, or uncertainty.

Синди Мэй. Научная теория юмора
Учитывая, что юмор — такой мощный инструмент для достижения успеха в обществе, неудивительно, что ученые пытались найти идеальную формулу для смешного.
O.I. Sinyova On What Is Involved the Theory About Cholesterol?
The birth of the theory that the cause of atherosclerosis is the use of animal products containing cholesterol was associated with the selfishness of narrow-minded scientists and the greed of pharmaceutical companies. Many millions of patients with atherosclerosis became its victims.
Михаил Владимирович Волькенштейн — советский физикохимик и биофизик, член-корреспондент АН СССР/РАН.

Знание — результат познания, который можно логически или фактически обосновать и эмпирически или практически проверить.

Гуманитарные науки — науки, специализирующиеся на человеке и его жизнедеятельности в обществе.

Эпос — род литературы, героическое повествование о прошлом, содержащее целостную картину народной жизни и представляющее в гармоническом единстве мир героев-богатырей.

Шахматы — настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске, сочетающая в себе элементы искусства, науки и спорта.

Нравственность — моральное качество человека, некие правила, которыми руководствуется человек в своём выборе.

Лженаука — деятельность или учение, представляемые сторонниками как научные, но по сути таковыми не являющиеся.

Галилео Галилей — итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени.

Обезьяний процесс — судебный процесс, проходивший в 1925 — 1926 в уголовном суде штата Теннесси в городе Дейтон над школьным учителем из того же города Джоном Скоупсом, который был обвинён в нарушении антидарвинистского акта Батлера.

Вечный двигатель — воображаемое неограниченно долго действующее устройство, позволяющее получать большее количество полезной работы, чем количество сообщённой ему извне энергии или позволяющее получать тепло от одного резервуара и полностью превращать его в работу.

Наследование приобретенных признаков — гипотеза, согласно которой приобретенные признаки могут передаваться потомству.

Квантовая механика — раздел теоретической физики, описывающий физические явления, в которых действие сравнимо по величине с постоянной Планка.

Телепатия — не имеющая надёжных экспериментальных доказательств гипотетическая способность мозга передавать мысли, образы, чувства и неосознаваемое состояние другому мозгу или организму на расстоянии, либо принимать их от него, без использования каких бы то ни было известных средств коммуникации или манипуляции.

Телекинез — термин, которым в парапсихологии принято обозначать способность человека одним только усилием мысли оказывать воздействие на физические объекты.

Николай Иванович Лобачевский — российский математик, один из создателей неевклидовой геометрии, деятель университетского образования и народного просвещения.

Михаил Васильевич Остроградский — российский математик и механик украинского происхождения, академик Санкт-Петербургской академии наук с 1830, признанный лидер математиков Российской империи в 1830 — 1860-е.

Реакция в политике — общественное движение в направлении, резко противоположном предшествовавшему или современному общественному строю, если такой строй считается наиболее прогрессивным.
Новатор — тот, кто претворяет новое в жизнь и внедряет прогрессивные идеи, приёмы и тому подобное в какой-либо деятельности.
Ньютоновская механика — вид механики, основанный на законах Ньютона и принципе относительности Галилея.
Пространство — время — физическая модель, дополняющая пространство равноправным временны́м измерением и таким образом создающая теоретико-физическую конструкцию, которая называется пространственно-временным континуумом.
Электродинамика — раздел физики, изучающий электромагнитное поле в наиболее общем случае и его взаимодействие с телами, имеющими электрический заряд.

Французская академия наук — научная организация, основанная в 1666 Людовиком XIV по предложению Жан-Батиста Кольбера, чтобы вдохновлять и защищать французских учёных.

Хромосомная теория наследственности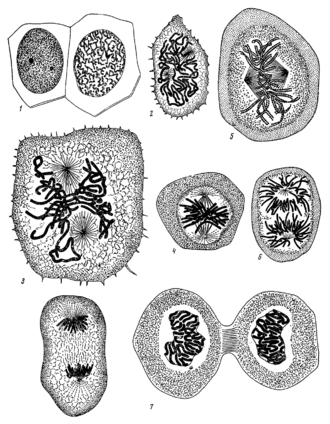
Хромосомная теория наследственности — теория, согласно которой передача наследственной информации в ряду поколений связана с передачей хромосом, в которых в определённой и линейной последовательности расположены гены.

Внутривидовая борьба за существование — один из движущих факторов эволюции, наряду с естественным отбором и наследственной изменчивостью, совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих между организмами и условиями среды.

Самозарождение — спонтанное зарождение живых существ из неживого вещества; в общем случае, самопроизвольное возникновение живого вещества из неживого.
Корпускулярно-волновой дуализм света — свет можно трактовать как поток корпускул, которые во многих физических эффектах проявляют свойства классических электромагнитных волн.
Биохимия — наука о химическом составе живых клеток и организмов, а также о лежащих в основе их жизнедеятельности химических процессах.

Химия — одна из важнейших и обширных областей естествознания, наука, изучающая вещества, также их состав и строение, их свойства, зависящие от состава и строения, их превращения, ведущие к изменению состава — химические реакции, а также законы и закономерности, которым эти превращения подчиняются.
Александр Михайлович Бутлеров — русский химик, заслуженный профессор, создатель теории химического строения органических веществ, родоначальник бутлеровской школы русских химиков, учёный-пчеловод и лепидоптеролог, общественный деятель, ректор Императорского Казанского университета в 1860 — 1863.

Органическая химия — раздел химии, изучающий структуру, свойства и методы синтеза углеводородов и их производных.

Спиритизм — религиозно-философская доктрина, разработанная во Франции в середине XIX столетия Алланом Кардеком.

Дмитрий Иванович Менделеев — русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель.

Плоды просвещения — комедия в четырёх действиях, написанная Львом Толстым в 1890 для домашнего спектакля.

Материализм — философское мировоззрение, в соответствии с которым материя, как объективная реальность, является онтологически первичным началом в сфере бытия, а идеальное — вторичным.

Медиум — чувствительное физическое лицо, которое, как считают последователи спиритуализма, служит связующим звеном между двумя мирами: материальным и духовным.

Мистицизм — философское и богословское учение, а также особый способ понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях, интуиции и иррационализме.

Натурфилософия — исторический термин, обозначавший философию природы, понимаемую как целостную систему самых общих законов естествознания.

Эмпирика — совокупность знаний и умений, приобретённых человеком в процессе взаимодействия с внешним по отношению к нему миром, а также в процессе собственных внутренних переживаний — вся совокупность чувственных восприятий и психической деятельности мозга.

Дух — сверхъестественное существо, наделённое волей, способностью воспринимать предметы и различными сверхъестественными способностями и возможностями, при этом само остающееся всегда недоступным для восприятия.

Омагниченная вода — термин, чаще всего встречающийся в текстах по нетрадиционной медицине и эзотерике, используемый для обозначения некой воды с изменённой относительно равновесия к окружающей среде структурой.

Познание — совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира.

Самокритика — выявление ошибок и недостатков в себе самом, разбор и оценка отрицательных сторон в своей деятельности, своем мышлении и поведении.

Чинопочитание — позиция одного человека по отношению к другому, признание достоинств личности.

Авторитет — влияние какого-либо лица, основанное на занимаемом им положении, должности, статусе и т.д.

Человечность — влияние какого-либо лица, основанное на занимаемом им положении, должности, статусе и т.д.

Академия наук СССР — в 1925 — 1991 высшее научное учреждение СССР, объединявшее ведущие научные институты и учёных СССР, подчинённое Совету Министров СССР.

Институты РАН. В настоящем списке перечислены институты, научно-исследовательские центры, обособленные лаборатории, другие научные организации, входящие в структуру Российской академии наук.

Оперетта — музыкально-театральный жанр, сценическое произведение и представление, основанное на синтезе слова, сценического действия, музыки и хореографии.

Генетический код — совокупность правил, согласно которым в живых клетках последовательность нуклеотидов переводится в последовательность аминокислот.

Полимеры — вещества, состоящие из мономерных звеньев, соединённых в длинные макромолекулы химическими или координационными связями.

Пьер Бомарше — французский драматург и публицист, известный в первую очередь комедийными пьесами Севильский цирюльник и Женитьба Фигаро.

Michael Wolkenstein. From the Science Of People Essay
This essay is dedicated to the science as a creativity, science, created by people for people in science.
Комедия — жанр художественного произведения, характеризующийся юмористическим или сатирическим подходами, и также вид драмы, в котором специфически разрешается момент действенного конфликта или борьбы.

Трагедия — жанр художественного произведения, предназначенный для постановки на сцене, в котором сюжет приводит персонажей к катастрофическому исходу.

Метаморфоза — превращение, преобразование чего-либо; наиболее общее понятие для процессов, происходящих во вселенной.

Манифестация — демонстрация.

Семейное счастие — роман Льва Толстого, впервые напечатанный в журнале Русский вестник в 1859, №7, 8.

Школа жен — пятиактная театральная комедия Мольера в стихах, премьера прошла в театре Пале-Рояль 26 декабря 1662.

Жан-Батист Поклен Мольер — французский комедиограф XVII века, создатель классической комедии, по профессии актёр и директор театра, более известного как труппа Мольера.

Казаки — опубликованная в 1863 повесть Льва Толстого о пребывании юнкера в станице гребенских казаков.

Кавказ — географический регион, преимущественно горная страна в Евразии, расположенный к югу от Восточно-Европейской равнины, на границе Европы и Азии, который охватывает территории: России, Грузии, Азербайджана и Армении, ряда непризнанных и частично признанных государств.

Александр Николаевич Островский — русский драматург, творчество которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — русский писатель, журналист, редактор журнала Отечественные записки, Рязанский и Тверской вице-губернатор.

Павел Андреевич Федотов — русский живописец и график, академик живописи, родоначальник критического реализма в русской живописи.

Бедность не порок — комедия в трёх действиях Александра Николаевича Островского. Написана в 1853. Напечатана отдельным изданием в начале 1854.

Василий Владимирович Пукирев — русский живописец-жанрист, академик и профессор императорской академии художеств.

Священник — представитель духовенства, одной из ступеней христианской церковной иерархии, рукополагаемый на священнодействие соответственно его чину.

Цинизм — откровенное, вызывающе-пренебрежительное и презрительное отношение к нормам морали, культурным ценностям и представлениям о благопристойности, отрицательное, нигилистическое отношение к общепринятым нормам нравственности, к официальным догмам господствующей идеологии.

Детство — первая повесть автобиографической трилогии Льва Толстого, впервые напечатана в 1852 в журнале Современник, № 9.

Протагонист — главный герой, центральное действующее лицо, актёр, играющий главную роль в произведении и т.д.

Село Степанчиково и его обитатели — повесть Фёдора Михайловича Достоевского.

Иван Сергеевич Тургенев — русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, прозаик, переводчик.

Отцы и дети — роман И.С. Тургенева, написанный в 1860 — 1861 и опубликованный в 1862 в журнале Русский вестник.

Анна Павловна — героиня романа Л.Н. Толстого Война и мир.

Ахросимова. Прототип — Настасья Дмитриевна Офросимова, что признавал и сам Лев Толстой.

Великие реформы — беспрецедентные по масштабу реформы Российской империи, проведённые в царствование императора Александра II, в 1860-е и 1870-е.

Крымская война — война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства, с другой.

Название может относиться к событиям 1830 и 1863 в Польше.

Кавказская война — обобщающее название военных действий Русской императорской армии, связанных с присоединением горных районов Северного Кавказа к Российской империи, и военного противостояния с Северо-Кавказским имаматом.

Будильник — русский литературно-художественный сатирический еженедельный журнал с карикатурами, издававшийся в 1865 — 1871 в Петербурге, в 1873 — 1917 — в Москве.

Виктор Борисович Шкловский — русский советский писатель, литературовед, критик и киновед, сценарист.

Искра — еженедельный русский иллюстрированный литературно-художественный сатирический журнал демократической направленности.

Производная — произведённая, образованная от другой, простейшей или основной величины, формы, категории.

Иванушка-дурачок — один из популярнейших героев русских, а также белорусских и украинских волшебных сказок.

Декабристы — участники российского антиправительственного движения, члены различных тайных обществ второй половины 1810-х — первой половины 1820-х, организовавшие на Сенатской площади в Петербурге восстание 14 (26) декабря 1825 и получившие название по месяцу восстания.

Михаил Илларионович Кутузов — русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых, участник русско-турецких войн, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812.

Иванушка-дурачок — один из популярнейших героев русских, а также белорусских и украинских волшебных сказок.

Оноре Домье — французский художник-график, живописец и скульптор, крупнейший мастер политической карикатуры XIX века.

Джон Тенниел — английский художник, карикатурист; первый иллюстратор книг Льюиса Кэрролла Алиса в Стране чудес и Алиса в Зазеркалье, чьи иллюстрации считаются сегодня каноническими.

Андрей Донатович Синявский — русский писатель, литературовед и критик, советский диссидент. Кандидат филологических наук.

Мертвые души — произведение Николая Васильевича Гоголя, жанр которого сам автор обозначил как поэма.

Михаил Севенович Собакевич — персонаж поэмы Николая Васильевича Гоголя Мёртвые души; помещик, с которым Павел Иванович Чичиков ведёт торги по поводу скупки душ умерших крестьян.

Евгений Онегин — роман в стихах русского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина, написанный в 1823 — 1830, одно из самых значительных произведений русской словесности.

Возрождение — имеющая мировое значение эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам и предшествующая Просвещению и Новому времени.

Контрреформация — католическое церковно-политическое движение в Европе середины XVI — XVII веков, направленное против Реформации и имевшее своей целью восстановить позиции и престиж Римско-католической церкви.

Просвещение — одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли.

Скоморох — в восточнославянской традиции участники праздничных театрализованных обрядов и игр, музыканты, исполнители песен и танцев фривольного содержания, обычно ряженые.

Раёшники — артисты народного театра, состоящего из небольшого ящика с двумя увеличительными стёклами впереди.

Гусары — легковооружённые всадники XV — XX веков, отличающиеся характерной одеждой: кивер, ментик, доломан, рейтузы, сапоги.

Барыня — гоноратив, обращение к замужней женщине, представительнице высших сословий на Руси; то же, что сударыня, госпожа.

Ряженые — обрядовое перевоплощение внешнего облика человека с помощью масок, одежды и других атрибутов.

Настасья Ивановна — шут графа Ильи Ростова.

Княжна Марья — героиня романа-эпопеи Л.Н. Толстого Война и мир, дочь Николая Андреевича Болконского и сестра Андрея Болконского.

Лысые Горы — село в Тамбовском районе Тамбовской области, административный центр Лысогорского сельсовета.

Лубочная литература — чдореволюционные дешёвые и примитивные по содержанию массовые издания, зачастую снабжённые ярко раскрашенной картинкой; примитивная литература, рассчитанная на невзыскательный вкус.

Народная песня — музыкально-поэтический жанр фольклора, наиболее распространённый вид народной музыки, продукт коллективного устного творчества.

Петрушка — балет русского композитора И.Ф. Стравинского, премьера которого состоялась 13 июня 1911 в программе Русских сезонов на сцене парижского театра Шатле, под управлением Пьера Монтё.

Федор Иванович Долохов — офицер Семёновского полка.

Масленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.

Кабак — питейное заведение в Российской империи с розничной продажей алкоголя и других акцизных товаров.

Дмитрий Иванович Писарев — русский публицист и литературный критик, переводчик, революционер-демократ.

Василий Васильевич Берви-Флеровский — российский социолог, публицист, экономист и беллетрист, идеолог народничества, видный участник общественного движения 1860 — 1890-х.

Павел Васильевич Анненков — русский литературный критик, историк литературы и мемуарист из дворянского рода Анненковых.

Современник — российский литературный и общественно-политический журнал, основанный А.С. Пушкиным и выходивший в 1836 — 1866.

Дискурс — многозначный термин, означающий, в общем смысле, речь, процессы языковой деятельности и предполагающие их системы понятий.

Массовая культура — культура быта, развлечений и информации, преобладающая в современном обществе.

Развлечение — российский иллюстрированный литературно-художественный юмористический журнал, выходивший в Москве еженедельно в 1859 — 1916.

Стрекоза — еженедельное российское литературно-художественное издание либеральной направленности, журнал сатиры и юмора с карикатурами. Издавалось в Петербурге с 1875 по 1908, позднее — с 1915 по 1918.

Николай Александрович Степанов — российский художник-карикатурист, брат Петра Александровича Степанова.

Владимир Степанович Курочкин — русский драматург, переводчик и редактор, издатель, сатирик; брат Василия и Николая Курочкиных.

Пьер-Жан де Беранже — французский поэт и сочинитель песен, известный прежде всего своими сатирическими произведениями.

Разночинцы — юридически не вполне оформленная категория населения в Российском государстве XVII — XIX вв.

Адриан Маркович Волков — русский жанровый живописец.

Михаил Сергеевич Башилов — русский художник; иллюстратор Л.Н. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина и других классиков русской литературы.

Фонтанка — водоток в Санкт-Петербурге, протока дельты реки Невы, пересекающая центральную часть города.

Jeffrey Brooks. The Lion and the Bear: Humor in War and Peace Essay
Lev Tolstoy isn’t perceived as a humorist. Meanwhile he used humor and was drawn into the humorous context of the time, which was rarely paid attention to. The figure of the bear brings a comic note to War and Peace, which complements the image of the protagonist.
Башкирский язык — один из тюркских языков кыпчакской группы, поволжско-кыпчакской подгруппы

Анализ — метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования.

Частотность — термин лексикостатистики, предназначенный для определения наиболее употребительных слов.

Существительное — самостоятельная часть речи, принадлежащая к категории имени и классу полнозначных лексем, может выступать в предложении в функциях подлежащего, дополнения и именной части сказуемого.

Послелог — служебная часть речи, выражающая синтаксические отношения между именем существительным, местоимением, числительным и словами других частей речи, а также между существительными.

Союз — служебная часть речи, с помощью которой связывают между собой простые предложения в составе сложного или однородные члены предложения.

Местоимение — самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, признаки, количество, но не называет их, то есть заменяет существительное, прилагательное и числительное.

Числительное — самостоятельная часть речи, которая обозначает число, количество и порядок предметов.

Частица — служебная часть речи, которая вносит различные оттенки значения, эмоциональные оттенки в предложении или служит для образования форм слова.

Настоящее время — граммема грамматической категории времени, которая означает, что развёртывание описываемой в высказывании ситуации включает момент речи.

Падеж — словоизменительная грамматическая категория именных и местоименных частей речи и близких к ним гибридных частей речи, выражающая их синтаксическую и/или семантическую роль в предложении.

Основной падеж — один из базовых падежей в языках номинативного строя; обычно этот падеж кодирует агенс, в синтаксических терминах часто являющийся подлежащим.

Дательный падеж — один из косвенных падежей, используется с глаголами, выражающими действие, направленное к этому предмету и производные от него.

Родительный падеж — один из косвенных падежей, в языках мира обычно выражающий притяжательные отношения, а также имеющий целый ряд других функций.

Исходный падеж — падеж, указывающий на исходный пункт траектории движения одного из участников ситуации.

Винительный падеж — падеж, которым в языках номинативно-аккузативного строя обозначается объект действия

Словоформа — слово в узком смысле, т.е. обладающая признаками слова цепочка фонем, формально отличающаяся от другой.

Boris Orekhov. Bashkir Wikipedia through the prism computational linguistic analysis Essay
Wikipedia is created simultaneously in many languages, and for the Bashkir language the corresponding section of the encyclopedia has a special status as one of the main sites in Bashkir, and, therefore, as one of the largest digitized text collections in this language.
Теология — систематическое изложение и истолкование какого-либо религиозного учения, догматов какой-либо религии.

Догма — утверждённое церковью положение вероучения, объявленное обязательной и неизменяемой истиной, не подлежащей критике.

Формальная логика — наука о правилах преобразования высказываний, сохраняющих их истинностное значение безотносительно к содержанию входящих в эти высказывания понятий, а также конструирование этих правил.

Вечность — философское понятие, имеющее несколько определений:
1) оно означает свойство и состояние существа или вещества, безусловно не подлежащего времени, то есть не имеющего ни начала, ни продолжения, ни конца во времени, но содержащего за раз, в одном нераздельном акте, всю полноту своего бытия; такова вечность существа абсолютного;
2) под вечностью подразумевается также бесконечное продолжение или повторение данного бытия во времени; такова принимаемая во многих философских системах вечность мирa, которая иногда представляется как простое повторение в бесчисленных циклах одного и того же космогонического и исторического содержания;
3) вечность есть интервал времени, который содержит в себе любой конечный интервал времени;
4) вечность — продолжительность не имеющая цикла.

Хрестоматия — учебно-практическое издание, содержащее систематически подобранные литературно-художественные, исторические, научные и иные произведения или фрагменты из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины.

Serge Belkov. Rational theology. Eternity ≠ Infinity Essay
Rational theologians aim to popularize knowledge about the rationality of faith and debunking errors by analyzing them in the dry language of mathematics and formal logic. In this part of our work, we will address a very common misconception about the concept of eternal torment that is inherent in so many modern religions.
Политическая корректность — термин для языковых практик, предназначенных для того, чтобы не оскорблять или иным образом не ставить в неудобное положение уязвимые группы людей.

Млекопитающие — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком.

Крысы — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком.

San Francisco | San Francisco Sunday Chronicle | Saturday Evening Post | Schmitt | Short-term memory | Shreveport, Louisiana | Skinner | Skinner box | Spence | Sperry | Synapse |
Ramones | Raskin | Reader’s Digest | Requiem Æternam | RNA | Roberts | Robertson | Rolls-Roys | Rock’n’roll | Rosenzweig | RT | Russia |